— Все, что произошло, касается только нас двоих, и больше никого, — с места в карьер возмущенно выпалил он. — Комбинат ты к этому делу не припутывай.
Он никак не желал верить, что Маша ничего не рассказывала матери. Будь это так, с чего бы мать побежала на комбинат?
Маша тоже не могла себе объяснить поведение матери и вполне разделяла гнев Хербота, хотя, конечно, ей не нравился тон, каким он говорил про Элизабет.
— А пошел ты куда подальше! И можешь думать что хочешь! — крикнула Маша и, с трудом сдерживая слезы, убежала.
На другое утро она снова решила прогулять, как уже не раз прогуливала за последнее время, и поехала в деревню с твердым намерением сказать матери, чтобы та не совалась в ее дела, потому что она, Маша, и сама знает, что, где и зачем.
Элизабет сидела в своем кресле у окна и ничем не могла заняться. Болел затылок, болела спина, болели колени. Она увидела, как идет по улице Маша, и подумала: хорошо, что она нашлась, дольше я бы просто не вынесла. Она бросилась навстречу дочери и прижала ее к груди.
— Где ты все время пропадаешь?
Вид матери испугал Машу. Нельзя ей рассказывать про ребенка, подумала она. Да и незачем.
— Я тебе поесть приготовлю.
— Неохота.
— Ну, тогда кофе.
— Мне сразу же обратно.
Маша почувствовала, как к горлу опять подкатывает эта мерзкая тошнота, состояние, которое после больницы только усилилось. Она купила себе плюшевую зверушку и на ночь укладывала рядом с собой, сама понимала, что это ребячество, но все-таки укладывала.
— Мама, не мешайся в мои дела, — сказала она, — очень тебя прошу, не мешайся.
Голос у нее дрожал. Зря я сюда приехала, думала она. Все равно мать не поймет.
— Ты ничего мне не рассказываешь, — ответила Элизабет, — а я боюсь.
— Не мешайся, ты все испортишь.
— Что испорчу?
Какой у нее взгляд, подумала Маша, это же надо, какой взгляд, только нечего ей так на меня глядеть, и вообще пусть оставит меня в покое. Пусть все оставят меня в покое, Хербот, мать, Ганс, университет с его дурацкими лекциями и семинарами, я готова все бросить, только пусть оставят меня в покое.
Она собрала кое-какие вещички, что подвернулось под руку, и побросала их в чемодан.
— Нельзя же так, — сказала мать, — не можешь ты просто так взять и уйти, просто взять и уйти.
Маша ничего не ответила. Элизабет слышала, как захлопнулась дверь. Мыслей в голове не было никаких, только горло сдавила судорога, грозя задушить. Потом изнутри прорвался крик. Она не знала, что может так кричать. Остановить крик она не могла и втиснула лицо в подушку.
В тот же день Элизабет Бош получила от Якоба Алена письмо, где он писал, что сделал в доме новые окна.
Теперь у него просторно и светло. И еще он срубил дерево, чтоб не затеняло террасу.
И наконец, с того же самого дня Элизабет Бош начала запираться у себя в квартире, не открывать ни на стук, ни на звонки — никому. Она стояла у окна, притаясь за гардиной, глядела на улицу и ждала, сама не ведая чего. Прошлое обрушилось на нее, слишком много прошлого: заброшенный поселок в Богемии, мокрая от росы трава, запах мяты и разогретые солнцем валуны. Умирает все, думала женщина, умирает время, умирает небо, лес и поля. И еще, подумала она, раз уж человек приходит в этот мир, должно быть хоть что-нибудь, ради чего стоит жить на земле. Пока муж не погиб, он желал, чтоб ему каждый день подавали завтрак, обед и ужин, а по субботам после выпивки — ложился с ней в постель. Ей это было по нраву. Потом дети желали самокат, велосипед, мопед. Но ведь не ради этого, думала она, господи, не может быть, чтоб только ради этого. И ей вдруг почудилось, будто на свете нет больше ни одной живой души, только она за своим окном.
После этого в одну из ночей Элизабет Бош увидела во сне, что под окном у нее стоит Якоб Ален. И выглядит он совсем как ее покойный муж: прищуренные глаза, щетина на лице, бледные губы. Он глядел на нее и молчал. А когда она спросила: «Как поживаешь?», он протянул руку, ту, без двух пальцев. Тут небо вдруг пожелтело, словно перед грозой. Вороны, подхваченные ветром, упали на деревню черным дождем. Она подбежала к Якобу Алену — а может, это вовсе был не Якоб, а ее муж? — но тот отпрянул в желтый предгрозовой свет. Она открыла глаза, и странное чувство ею овладело: будто она раздвоилась. Они разорвут меня, подумала Элизабет, они разорвут меня на части.
Эрна Лаутенбах была человек душевный. Именно когда у других опускались руки, ее осеняла какая-нибудь спасительная идея. В свое время, сразу после войны, она чуть не заделалась француженкой. Но ее военнопленный Жан тотчас после освобождения Франции вернулся к себе в Лион, а ей оставил только мечты, слово «бонжур» и еще «я тебя люблю» по-французски. Когда у Элизабет погиб муж, Эрна все ей рассказала. Ведь должен был кто-то позаботиться о том, чтобы женщина не наложила на себя руки после такого удара. Эрна Лаутенбах какое-то время даже ночевала у Бошей. «C’est la vie, — сказала она как-то вечером. — То-то ты, верно, удивляешься. Да и вы все небось думаете, я человек конченый. Никчемучка. А я говорю по-французски. Bonjour, Элизабет, Bonjour, mon ami. Я ведь, можно сказать, без малого попала тогда во Францию. Проводила бы теперь отпуск на островах, в белом отеле. Мужу я про Жана ничего не рассказывала. Отцу не рассказывала, матери тоже нет. Знаем только он и я. Взаправдашний француз».
Читать дальше
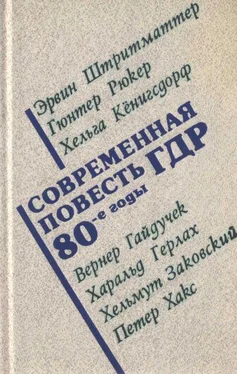







![Петра Вернер - Неожиданный визит [Рассказы и повести писательниц ГДР]](/books/414133/petra-verner-neozhidannyj-vizit-rasskazy-i-povesti-thumb.webp)



