— Подумаешь, — говорит он.
— Ах ты боже мой, — говорит она.
— На бога тоже надежда плоха. Он еще до сих пор никому не помог.
— Они разорвут меня на части.
Раймельт недоуменно поднял глаза на женщину, а когда она вдобавок спросила:
— Тебе случалось видеть желтое небо и чтоб на землю сыпался дождь из ворон? — он уже не сомневался, что от двух рюмок водки Элизабет окосела. Как теперь быть, он не знал: то ли уложить ее здесь же на диван, то ли проводить до дому. И, не сумев удержаться от искушения, схватил Элизабет за руку. Его собственная рука при этом дрожала, и он подумал про себя: ну и болван же я!
— Он очень приличный человек, — вдруг заговорила Элизабет, — он совсем не такой, как ты думаешь. И если я перееду к нему, это тоже будет не так, как ты думаешь. Он ждет меня, он добрый человек, а время утекает, словно вода.
Раймельт пил и курил, и раз за разом наливал себе до краев. Зачем ее сюда принесло? — думал он. Какое мне до этого дело? У нее есть сын, сын работает в газете и собирается кой-куда уехать, вот пусть у сына и болит голова. И дочка у нее в университете, а комбинат взял на себя все расходы по обучению. Теперь Раймельту хотелось только одного: чтобы Элизабет ушла и оставила его в покое. Но женщина говорила, говорила, она ступила на ту самую дощечку, которую Раймельт все-таки перекинул для нее через канаву. Он меня понимает, другие — нет, а вот он понимает. Она больше не испытывала страха.
— Берлин или Прага — всякий раз словно что-то запретное, никуда не годится. А ему сюда — ты ведь знаешь, какой он. Он без своих синих чаек и жить не сможет. Синие чайки — вот такой это человек. А продать дом… Родной очаг — он и есть родной очаг. Я-то знаю, каково это, когда приходится все бросить. А ведь я была тогда голодая. Ему я нужна, а детям только стою поперек дороги. Никогда бы раньше не подумала, но так оно и есть, тебе-то я могу сказать.
Раймельт пытался сохранять спокойствие, но вдруг откуда-то изнутри накатила слепая ярость, все равно как в тот раз, когда он пнул ногой крестьянина или когда выбросил в окно любовника своей жены.
— На тебя даже слюны жалко!
Только это он и сумел выкрикнуть, после чего распахнул дверь. Элизабет до того испугалась, что не могла сделать ни одного шага. А Раймельт от этого еще пуще взъярился и повторил:
— На тебя даже слюны жалко!
А когда Элизабет все-таки нашла в себе силы уйти, он выкрикнул ей вслед немало бранных слов, хотя впоследствии при всем желании не мог вспомнить, какие именно. Он кричал, что она не мать своим детям, что на уме у ней одни мужики, что ее сыну никогда не бывать ни в Лондоне, ни в Швеции, что дальше Засница его теперь никто не пустит и она это знает не хуже, чем он, что и философский факультет для дочки накрылся, грех чего-то требовать от комбината, если мамаша сбежала на Запад, когда сбегать категорически нельзя, потому что везде понатыканы эти атомные штучки, и должен же быть какой-то порядок. «Я ему нужна» — ах-ах, сентиментальные бредни. Гамбуржцу в их деревне нечего делать, покуда его, Раймельта, голос имеет здесь хоть какой-то вес, гамбуржцу нечего, и чтоб у них в совете духу ее больше не было. Чтоб не было такой, как она. Женщина тесней стянула платок на груди и ушла в темноту, не переставая твердить про себя один и тот же вопрос: да что ж это такое? На губах у нее играла странная усмешка, но она этого, разумеется, не замечала.
Раймельт сидел в унылой безнадежности своей комнаты, рубаха на груди распахнута, ноги босые, сидел и без устали разговаривал с самим собой, впору было подумать, что он рехнулся. У него в голове не укладывалось, как это Элизабет Бош… другие — да, другие пожалуйста, но чтобы она… Муж — передовой рабочий, повел вагонетки, хотя после затяжных дождей мог отказаться, — словом, настоящий шахтер, такая память живет и после смерти, да и сама Элизабет — всюду, где была нужна помощь, Элизабет оказывалась тут как тут, а теперь… В голове не укладывается. Сын — молодой кандидат наук, выездной кадр. Да и девчонка не уступит брату. Гамбуржец — добрый человек, пусть так, может, и добрый, может, и добрый. Но сбежать только из-за этого… Из-за этого — да ни в жисть! Родной очаг! Здесь у тебя родной очаг, больше нигде. Синие чайки, дались тебе эти синие чайки.
Какое-то время он продолжал выкрикивать в том же духе, потом стены начали давить его, и он выскочил на улицу, а сам думал: может, я еще догоню ее. Но женщина уже исчезла. И в комнате у нее не было света. Синие чайки! Он неудержимо рассмеялся. А потом так же неудержимо заплакал, плакал и проклинал себя за то, что перебрал.
Читать дальше
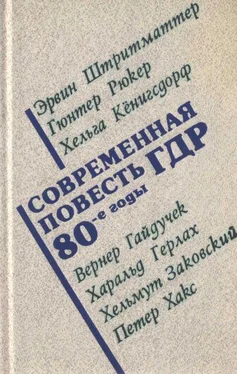







![Петра Вернер - Неожиданный визит [Рассказы и повести писательниц ГДР]](/books/414133/petra-verner-neozhidannyj-vizit-rasskazy-i-povesti-thumb.webp)



