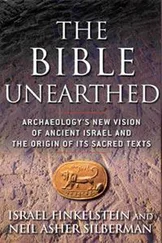К ночи пассажиры угомонились, расползлись по своим полкам. Подвыпивший дед густо захрапел, комсомолочка, завернувшись с головой в одеяло, заснула как убитая, небритый хмырь дремал, сидя у окна. Папа осторожно слез с полки и, лавируя между мешками, ящиками и чемоданами, добрался до туалета. Вернувшись в купе, он забрался на свою полку, извлек из большого мешка пару котлет и, пожевав всухомятку, попытался заснуть.
Заснуть не удавалось, в голову лезли дурные мысли, воображение рисовало картины, от которых мурашки начинали бегать по коже. Вот он стоит у подъезда, звонит и звонит в звонок, но никто не открывает — Доры Михайловны нет дома! Или другое. Дверь открывает незнакомая дама, он протягивает ей письмо дедушки, но дама строго отвечает: «Не знаю никакого Абрама Борисовича» — и хлопает дверью перед его носом.
И то правда, с Дорой Михайловной дедушка был едва знаком. Однажды к нему на завод привезли из ближайшего лагеря группу заключенных — вырубать лес, расчищать территорию. Среди работяг, ловко управлявшихся с киркой и лопатой, обратил он внимание на высокого брюнета, нерасторопного, неумелого, к пиле и топору явно непривычного. Во время перерыва велел привести растяпу, усадил напротив, посмотрел на него внимательно.
— Ду бист агид? [39] Ты еврей? (идиш.)
Высокий брюнет оказался ленинградцем. Еще недавно он был нэпманом, известным всему городу богачом и кутилой. Но НЭП кончился, а вместе с ним окончилась и веселая жизнь. Мало того, стали его «трясти» — выколачивать золотишко. Он вроде бы все отдал, но кто-то посчитал — не все! Дали десятку.
— Чем тебе помочь? Не голодаешь?
— Спасибо, деньги у меня есть, но вот жена собирается приехать на свидание, нельзя ли ее устроить на пару дней?
Через какое-то время в дом явилась высокая эффектная дама.
— Я Дора Михайловна. Приехала к мужу на свидание.
А потом пошли из Ленинграда посылки — у дедушки появилась обязанность носить в лагерь передачи. Впрочем, обязанность эту ему приходилось исполнять все реже и реже, со временем о ленинградской даме почти забыли, а вспомнили, когда было решено, что папа поедет учиться в северную столицу. Дедушка, правда, считал, что никакие знакомства папе не понадобятся: «Приедет в институт, устроят его в общежитии — теперь так делается». Но бабушка настояла: «Мало ли что может случиться, а вдруг Борю не примут и ему придется возвращаться? Ничего страшного, если он пару дней переночует у Доры. Ну, что тебе стоит ее попросить, ты ведь для всех с утра до вечера бегаешь!» Дедушка спорить не стал, написал письмо, которое вместе с аттестатом зрелости, паспортом и направлением местного отделения Всероссийского союза работников просвещения заложили в мешочек, — папа должен был носить его на груди под рубашкой.
— Эй, паря, ты там живой? Вторые сутки звуку не подаешь. А мы тут уже помылись-побрились, чаи вот гоняем. Давай слезай, гостем будешь, — беззубый дед, взобравшись на какой-то ящик, тряс папу длинной сухой ручищей.
Папа открыл глаза: за окном сквозь электрические столбы мелькало яркое небо, в купе дружно пили чай, в коридоре шла суетливая дневная жизнь. Папа вытащил из чемодана мыло и полотенце и стал осторожно сползать со своей полки.
— В тувалет, паря, иди в передний вагон, а за кипятком опосля пойдешь в задний — в нашем-то оба заперты.
Умывшись и переодевшись, папа приткнулся на нижней полке, достал куриную ножку, свежий огурец, заказал стакан чая.
— Угощайтесь.
— Благодарствуем, мы уже. А вот если у тебя сахарок найдется, не откажемся.
Папа высыпал на стол кусочки сахара.
— А вы куда путь держите? — вежливо спросила дородная дама, не отрывая глаз от вязания.
— В Ленинград.
— Домой ворочаешься или кто у тебя в Питере есть? — поинтересовался дедок.
— Учиться еду.
— Учиться — это хорошо, теперя все учатся, неграмотные нынче ни к чаму.
— Вы поступать едете? — оживилась комсомолочка. — А куда?
— В Политехнический.
— И я поступать еду. Только я в Физкультурный. Слышали про такой, имени Лесгафта?
— Ну вот, теперь у тебя и подружка есть до самого Питера. А мы-то все вятские, к вечеру, с Божьей помощью, дома будем.
В Вятке поезд стоял полдня; одни пассажиры сходили, другие втаскивали свои узлы и чемоданы. Папа и комсомолочка устроились у окна.
— Ой, как это вы на физику? Это ведь так сложно, у меня по физике одни тройки были.
Папа с умным видом стал объяснять симпатичной попутчице, что «в физике все очень просто, потому, что там все логично. Физика — это не литература! В литературе кто во что горазд: учитель говорил, что лучший писатель — Толстой, а в учебнике написано — Горький. В физике такого не бывает. В физике все объясняется законами, и, если происходит что-то непонятное, значит, еще не открыт тот закон, который это объяснит».
Читать дальше