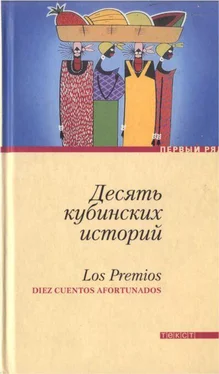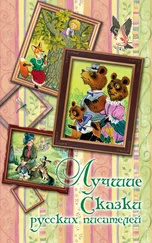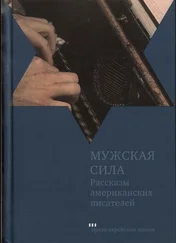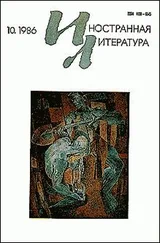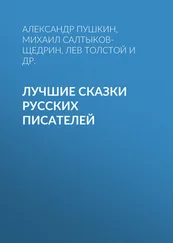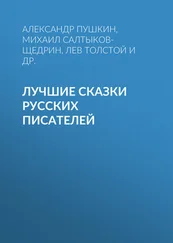Церемония приветствия была завершена. Я выпрямился и прошел в комнату, чтобы занять один из стульев, таких похожих между собой, что казалось, будто они принадлежали одному огромному столовому гарнитуру. Приглашенные Анны Моралес начали рассаживаться. Только мой первородный страх и строгое воспитание могли объяснить, прежде всего мне самому, почему я перед поэтессой ни словом не обмолвился об Ипполите Море. У меня на языке крутилось множество вопросов, но они так и завязли в горле невысказанными.
В комнате ничто не привлекало его внимания и не вызывало интереса; как человек, пребывающий в ожидании, он не мог сконцентрироваться ни на чем, кроме предмета ожидания. Потушили свет, и под потолком зажегся синий луч прожектора. Какой-то поэт — он не видел, как тот прошел в темноте, — остался один в свете луча посреди темного пространства и, казалось, был обернут в голубой целлофан.
Держа в руках несколько листов, он был готов начать читать, но, кажется, ждал какого-то сигнала. Поэтесса со своего украшенного бахромой кресла взмахнула рукой в знак начала «цветочных игр» — поэтического состязания. Когда поэт закончил чтение, прожектор потух. Второй чтец встал и, как тень, проследовал к центру комнаты. Вновь загорелся синий луч, и поэт вошел в целлофановую камеру. Несколько выступающих прошло через нее. Выходя из камеры, они снова садились на свои места, как будто ничего не происходило. И в самом деле, разве что-нибудь произошло?
Как вежливый человек, он делал вид, что внимательно слушал, хотя в действительности, далекий от всего, находился на другом конце длинного туннеля, как сквозь туман воспринимая стихи под фабричной маркой «авангард конца века». Вообще, поэзия, хорошая или плохая, не была предметом его интереса, не входила в круг его увлечений и зачастую раздражала или вызывала скуку. Некоторые стихи казались ему увлекательной словесной шарадой, и какая-нибудь яркая, точная, талантливая строка вырывала его из погруженности в ожидание, и он отводил взгляд от двери и переставал вслушиваться в звук шагов на лестнице…
Но затем какая-нибудь нелепость, чепуха своей безнадежной гримасой снова отвращала его, и он возвращался в состояние ожидания. Нет, это поднимался не он, не он входил в дверь…
Среди слушателей проносились меткие, с чувством юмора суждения и уже известные второсортные циркачества, между тем как те, кто уже отчитал, передавали друг другу на потемневших металлических подносах чашечки с чаем, чипсы и рюмки с ромом.
Я не вытаскивал бутылку из пакета, держа ее рядом с собой, и совершенно не собирался ставить ее на «общий стол», если только Ипполит Мора с триумфом не появится на пороге. На некоторое время — видимо, это тоже было частью программы вечера — прожектор потух и комната погрузилась в темноту. И, как по приказу хозяйки, большие часы с маятником, на которые он обратил внимание, занимая свое укромное место, начали громко бить полночь, их металлический, тяжелый звук отличался от заключительного удара. Прямо как в «Заброшенной земле» [10] «Заброшенная земля» — стихотворение Т. С. Элиота.
, произнес один из поэтов в темноте. После последнего удара зажегся свет. Все замолчали, и он решил, что настал черед хозяйки вечера. Как и в предыдущие разы, он ошибся.
Анна Моралес продолжала сидеть на своем кресле в цветах прямо напротив старинных часов на консоли, и пока он ждал, что она встанет и займет место в голубой камере, зазвучала музыка. Она доносилась из глубины дальней комнаты. Какой-то певец хриплым и грустным голосом под скудный аккомпанемент пел болеро. Поскольку Анна Моралес была единственной женщиной среди присутствующих, никто не танцевал. Кот спрыгнул с ее юбки и улегся рядом с креслом, и тогда поэтесса встала.
Он убедился, что она была высокого роста, худая, и от нее исходила какая-то странная притягательная сила, несмотря на фальшь или благодаря ей. Она прошла вперед, остановилась перед ним и протянула ему руку, приглашая на танец.
— Я всегда танцую первый танец с новым гостем.
Он решительно встал, сунул пакет под стул и, приняв ее приглашение, приобнял ее, встав с ней в пару. Иногда я действую так, словно пружина, долгое время сжатая внутри меня, вдруг распрямилась сама собой. Танцуя, они переместились в центр комнаты. Поэтесса двигалась в такт музыке и танцевала очень неплохо, ее тело было пластичным и гибким. Я немного приподнял наши руки, тем самым подчеркивая старомодность танца. В танце вел я, но, по сути, я подстраивался под ее стиль. Мы танцевали медленно, с каждым кругом все плотнее и плотнее прижимаясь друг к другу.
Читать дальше