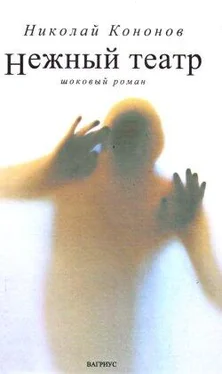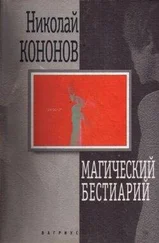Он как-то кратко хохотнул, поперхнувшись словами как слюной, окончательно смутился. Мы стояли молча. Друг перед другом, как развернутые статуи. Как заключенные за одно и то же в две разные далекие тюрьмы. Ни подкоп ни общий побег были невозможны. Я захотел потереться о его тело, как воробей, купающийся в пыли. Чиркнуть, вспорхнуть. [67]
Краткость этого обмена, мое исчезнувшее время, вихрятся в моей голове как найденное и ускользнувшее доказательство.
Доказательство чего?
О, самого главного…
Того, что я не узнаю никогда.
Еще один толчок, одно движение…
Я хочу расцеловать его, будто опьянел. Медленно, не отрывая своих губ от его. Я своими глазами уже сделал это тысячекратно. Легко уяснил все их чувственные свойства – сухость и податливость, мягкость и отзывчивую кротость. Я знал. Уже знал как он ответит мне. Мне примерещился его язык, табачный привкус слюны и гладкость десен. Хочу, чтобы и он поцеловал меня. Меня, отнимающего у него женщину, часть женщины, часть жизни, – просто так, в силу тупой неодолимой случайности. В полном безволии и слабости. Ведь, Боже мой, по сути я не нуждаюсь ни в том, ни в другом.
Я нуждаюсь только в нем.
Вдруг я понимаю это.
Так же как и то, что моя нужда не будет утолена, и так страстно желаю его, что не могу сдержаться. Я стекаю к его ногам.
Но я сдерживаюсь.
Под выспренными перестоявшимися небесами.
Мне становится понятно, что не сместившись ни на йоту, оказываюсь во власти не совершенного действия, которое никогда не насытится смыслом нашего чувства. Оно, не высказанное, невозможное, вот-вот схлопнется, исчезнет, повреждая меня. Я только и могу сказать ему:
– Ну, Толян, ну, Толя…
Я смолкаю. Я понял, что все уйдет в эту сухую почву. Смолкаю. Как низкая крона, с которой секунду назад снялись все птицы. Я остаюсь в плену этого дня. [68]
Он смотрит вниз, потом на меня, и я почувствовал по одному мимолетному движению бровей, губ, как хмель этого мира проницает меня.
Вот он отрывается, не пожелав ни на миг оставаться моей частью. Нечего не объясняя уходит. Ровно шагая вперед. Колени его перетирают холстину штанов. До меня доносится шершавый звук.
Я увидел, как он ступает в мягкий покров пустой улицы. Как на него удивленно смотрит пестрый петух, важно вышедший через прореху в заборе. Толян на мгновение приостанавливается, характерным жестом подтягивает просторные штаны, едва достигавшие щиколотки. Всунув руки в глубокие карманы, будто собирался доставать сразу два заряженных револьвера, как в вестерне. Петух боком отходит.
Смотря ему в спину, удалявшемуся в дневной жар, я впервые прочитал его сполна, как иероглиф. И никакого смысла кроме обиды, доброты и угрюмства в нем не обнаружил. Он все еще переминался на пороге своей непомерной жизни, едва ли начавшейся, но уже ставшей неизменной.
Я отчетливо увидел, как он шел вперед и хлюпал растоптанными всепогодными ботинками без шнурков. Он носил их на босу ногу. Я увидел, как его ноги шли отдельно от тела, – они вталкивали его в жар, а он сопротивлялся.
Я не мог представить его детства. Я был уверен, что он не умеет ездить на велосипеде, играть в простые игры. Читал ли он книги – вот загадка. Он опять подтянул штаны. Бедный добрый человек. Сердце мое сжалось. Мой Толян. Эти слова прозвучали во мне, как «прости». Я понял, что полюбил его. Хотя бы за то, что он понял на моих глазах простую истину – две минуты назад в доме старика он увидел себя. Но картошку ему никто не прополет. Нет ничего бесполезней моей любви. Я прочувствовал ее как шантаж.
___________________________
Перед моими глазами струится лента кино. Это так красиво, что уже и неправда. Я чувствую только напряжение и бесконечную протяженность этой сцены.
Холодноватый свет. Он поднимается от плоской почвы, а не нисходит с небес.
Так бывает, когда начинаешь плакать, и слеза застит самый низ зрительного поля, пока ее не сморгнули.
От меня отступает многообразие моей жизни, обесценивая все прошлые переживания.
Они перестают меня касаться, так как, так как, так как…
Так как наш кораблик низко бурча отплывает.
За кормой завиваются медленные буруны, почему-то в воде клок сена кружится, гарь мотора низко оседает.
Белая надпись на железной будке «КАСА» все меньше и меньше делается.
На скате берега Толян стоит.
Мне тяжело, поэтому сказуемые я ставлю в конце предложений, как грузила, чтобы мою память не снесло течением. Как снасти.
Все, что я вижу, перестает меня касаться, но странным непостижимым образом примыкает ко мне плотнее и плотнее.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу