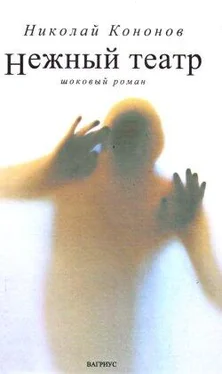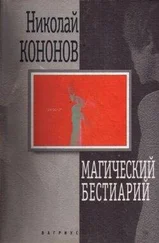Ее слова о моей матери, летающие вокруг, были поедаемы мною вместе с застывшем варевом, дрожащим в глубокой тарелке, когда эти мутные сколы я подносил к губам. Они таяли во мне, не оставляя следов ни в сердечной памяти, ни в моей утробе, заполняемой грубым варевом.
К холодцу полагались горчица и хрен, обжигающие меня, будто отворяющие еще сильнее Бусиным словам. Водки она никогда мне не предлагала. «А вот пивка. Я ведь пивко всю жизнь, не поверишь, люблю». И пиво в стеклянной банке обычно я приносил с собой, выстояв трезвую очередь серьезных работяг. В разливочной у самого метизного завода. Дверь в дверь. Это все было неподалеку.
В очередь за мной всегда становился невидимый тихий бомж. Ноздри замечали настоящий породистый запах, и только через некоторое время я понимал, что это смрад прелой человечины… [70]
Мы пьем с Бусей это пиво. Я начинаю тихо распускаться, теплеть в себе, как иерихонская роза. Все внутри меня оживает, но остается неприятно ржавого цвета. И вот я сам себя способен оцарапать изнутри; мне делается горько.
Но мне казалось, что через ее сладковатый женский флер, несмываемый никакой водой (невидимо розовый и истомленный, будто он сам разогревал ее) сочился дух завода, принижающий ее как горизонт зорю. «Да не нюхай ты от меня», – говорила она, будто я приуменьшал ее, дыша ею. Она и вправду становилась все суше и суше, будто из нее исчезала особая магма мягкости, и мне порой чудилось, что я виновен в этом, что это я выдышал весь ее жар. Наверное так старела Диана-охотница, пускающаяся на ловитву все более крупных и малоподвижных зверей. Зайца она уже не поймала бы.
Будто завод так сушил ее члены и сопряжения, как алкоголь, делающий из женщины боевого скрипучего андрогина.
Мне казалось – когда я вижу и осязаю ее таковой, то обкрадываю ту, давнюю, пребывающую в моей памяти в неизменности и сиянии; но на самом деле объекта для кражи давно не существовало. Даже во мне. В самых глубоких дебрях моих снов.
Она становилась парадоксом, который я не должен разгадывать (так как жертва пониманию была слишком велика). Я только фиксировал почти неуловимые перемены, опознавал их не нарецая. Чувствовал нечто нудящее меня сильней и сильней – совсем недалекое от жалости и сострадания. Будто мне открывалась мельчайшая мера ее сокровенности. Я брал ее под руку – и думал о плотных жилах, по которым проталкивается импульс усилия. Она брала под руку меня, и шагов через тридцать я ощущал, как она вся отяжелела, иссохнув. Это была утонченная апория, и я понимал, как можно запыхаться – нет, не от бега, а от умственного напряжения, чтобы ее решить. И в конце концов я начинал не только обонять, видеть и чуять ее иначе – как новую смутность и тоску мой жизни, на которую лимит сил давно исчерпан. Даже особые тайны женского детства перестали оживлять ее. «Девять отверстий, девять отверстий», – скандировал я про себя унылую мантру ее тела, и, в конце концов, незаметно решал ее парадокс не приближаясь к сути, а долгой асимптотой, но абсолютно верно и безжалостно.
Теплая благодать равнодушия сливались во мне с самыми простыми вещами – временем суток, названием ненужного фильма, что мы вместе смотрели, неисполнимыми обязательствами перед нею. Что перемена произошла, я понял когда не захотел прогнать крохотную уксусную мушку-дрозофилу, шныряющую по щеке спящей Любы. Я поймал себя на мысли, что уже могу смотреть на нее как на труп… Не отворачиваясь. Как мое зрение втекает в ее ноздри и приоткрытый рот. Так, как туда могут проникать только язык и член. Через неплотно смеженные веки я вижу как блуждают белки – как моллюски в створках. «Вот-вот, она совсем ничего не чувствует», – с облегчением я сообщил себе. И это облегчение было в сотни раз хуже самого едкого злорадства. Ведь в этом сообщении наречие «ничего» обосновалось навсегда. Я понял, что я ее уже проводил.
У Любы чуть высветленный край радужки, сжимающий ободком купол роговицы. Я всегда просил ее посмотреть в сторону, немного скосить глаза («вот туда, туда взгляни», – и я указывал ей за свою спину, как врач-окулист) чтобы они целиком наполнились моим самым любимым отсветом. Камеди. Мягкого обугленного окисла. «Ну не смотри ж ты так, ты прям в меня забрался», – она, не выдерживая моего взора, щурясь смаргивала несуществующую слезу, как бы отряхивалась от меня. И я никогда не мог уловить настоящей тьмы, таящейся за ее дышащим зрачком. Там обретались сумерки – ее сумерки и моей матери.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу