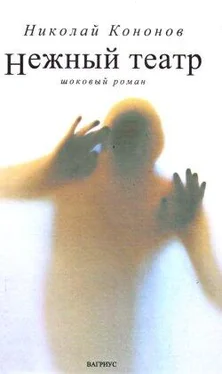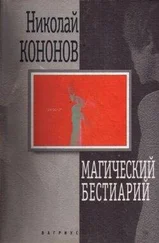«Если нет полумесяца, то не будет и подарков», – задорно говорил я.
«Не нужны мне ничьи подарки, потом ввек не расплатишься», – отвечала она, стряхивая с постели крошки небывших пиршеств, разглаживая мифические складки, где могли водится разве что нимфы, способные потревожить покой сомнамбулы. У меня был целый перечень наблюдений за ее моторными движениями, связанными с опрятностью и ровностью. Конечно, клинически чистая постель, где нельзя было найти ни одной складки. Даже ее сон не смог бы покатиться по простыне, настолько все было ровным, как и она сама – замкнутой. Но мне это не казалось апологией бесплодия, будто в ней ничего никогда не вызреет. Только засохнет или ороговеет. Ну в конце концов выкатится. Горошиной.
Но вот она склоняла голову так, что начинала читаться ее шея. Мне всегда трудно было предвидеть это положение, но я так ждал его. То ли отвесно падающий свет зажигал в ней этот рисунок; но от неизъяснимой тяжести этой сумеречной тени, скользящей от подбородка к ключице, от этого тусклого недоступного мне смысла, возникшего бог знает по какому произволу, я обмирал. Слабел всем существом только чувствуя, но ничего не видя, трепет едва задрожавшей нижней губы. Погнавший на меня маленькую волну какой-то простой и легко выполнимой просьбы.
Но также я отчетливо понимал, что смысла в этом не было никакого. Я знал, что самообольщался, ведь она просто печалилась, горевала, мечтала, пребывала в задумчивости. Где-то поблизости от меланхолии и понурости.
Мне хотелось задержать эти состояния, перехватывая ее взор, но он стыдливо убегал от меня – вдаль, где на самом деле ничего непостижимого мне не было. Просто скользил по уровню узенькой синей линейки, отделявшей холодноватую голубизну стен ее комнаты от кипенно белого неровного потолка. Будто это келья, высеченная с трудом в скале. Ну какие в этом были высокие смыслы? Да никаких. Она чуть-чуть надувала губы… На миг. Но все кончалось. Она начинала улыбаться. [69]
«Сейчас холодца! И почаевничаем».
Она угощала меня холодцом, этой скромной народной пищей. Не взирая на погоду. В холода и теплынь.
Все-таки ей удавалось разжечь свою чувственность самыми простыми способами. Даже рассуждениями о еде, о долгой и трудной варке ингредиентов, доступных народу. Понимая, а она была все-таки чувствительной, что нельзя столь долго повествовать только о себе, Буся легко переходила к неопрятной прожорливости подруг и подозрительной аскезе (больны небось чем?) знакомых мужиков. И я кажется знал всю ее бригаду как энциклопедию добродетелей и пороков.
– Знаешь, как холодец по-русски готовить? – Спрашивала она не меня, а совсем другого человека, например новую жилицу, вышедшую к вечеру на кухню. И сама же с плотоядной и одновременно слабой улыбкой отвечала, наверное, чтобы та заучила чудесный рецепт древнего обольщения:
– Варишь свиные копыта (чистые, самую нутрь) не поверишь, всю ночь часов семь, в ведерной кастрюльке с чесночком-перчиком-лаврушкой, воду доливаешь до уровня, а лучше бульоном долить, а потом ранним утречком разбираешь аккуратненько по формочкам, заливаешь наваром, можно еще морковкой украсить, и в холодильничек или там между окон, если зима, – и вечерком, добро пожаловать, – на стол!
Рецепт кончался восклицанием.
Это ее чудное «не поверишь» навсегда перевело простые рецепты в область сказки со счастливым концом, когда все делаются сыты и благодушны. Настолько, что злодеи позабывают о приуготовленных злодеяниях, а прочие – просто о несчастьях.
«О, не поверишь», – хочу сказать я сам себе, но она ведь считала, что я очень люблю мутную гущу с белой наледью жира. Бруски холодца трепеща колебались ожившим сочувственным телом.
Во время еды она неостановимо болтала, как будто проявляла глубинную суть глагола «есть», то есть «быть». «Быть» – не тревожа себя и не исчезая, находясь в липкой сети слов; которые мерцают, скрадывая тяжелый смысл еды, моей жизни и всего, чему я не верил на этом свете.
Но я видел, видел, я догадывался, догадывался, что говоря об этом холодце она приоткрывает некую завесу, за которой стоит голая разнузданная маньячка, и в этот краткий миг манипуляции и жесты ее рук меня ужасали. И развела нас вообще-то еда в каком-то метафорическом смысле. Именно из-за одного нового изощренного приема во время любви, прелюдии, вдруг как-то неожиданно примененного ею, я угадал все о ее другой жизни. Угадал, не увидев ничего, но моего чувства оказалось более чем достаточно. Это была новая, но изощренная деталька, совсем маленькая моя догадка, но все-таки…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу