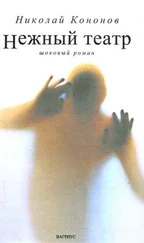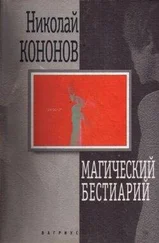Николай Кононов
Трехчастный сиблинг
Теперь все эти люди настолько далеки от меня, что на самом деле их попросту нет, и с этим связано мое чувство свободы, и я могу нынче описать ту нашу прошлую жизнь, где было много чего интересного во всех смыслах. А в каких смыслах? Во всех, в бытовых во–первых. Наша жизнь была вычурна и поэтому интересна до сих пор. Начать хотя бы с того, что мы жили втроем — она одна и двое нас, и еще один приходящий, точнее наезжающий из еще более южного поволжского городка в более северный, если так можно говорить о нижней Волге. Мы странным союзом — то квадригой, то триумвиратом снимали очень плохую двухкомнатную квартиру у Стива, кандидата наук по Бабелю, он был главою скучнейшего архипорядочного еврейского семейства. До того — они, то есть еще лишь она, он и дитя снимали другую квартиру, а я, я-он, был приходящим платоническим третьим и совсем не лишним. Я водил их ребенка от еще другого брака в садик, носил продукты и алкоголь.
Однокомнатнатная на девятом этаже двенадцатиэтажного дома, угрюмого как силосная башня в степи, упертая в небеса.
Окно в восемнадцатиметровом параллелепипеде зияло как язва желудка и кровоточило закатными вечерами.
Да–да, я имею право это рассказать, ведь когда она , то есть ты стала знаменитостью, примой, случайно встретив меня, ты сделала вид… А какой вид? Какой–то… Усталой экскурсантки. Да и господь с тобою — у всех все разное теперь. Я тут же отметил про себя, — ты пополнела, отяжелела и провисла и стала теткой. Это была полнота, не пышность, веселящая мужской зрачок, а наполненность. Я увидел все, что ты съела за то время, которое уже прошло. И по этому гастрономическому признаку я понял, что прошло его много
Эту однокомнатную, пока я еще не стал совсем третьим, а был просто нелишним, снимали у странной, опять–таки, троицы девиц. О, это магическое число три. Тем девицам было возле сорока, но именно девицами они и оставались. Вечные заочные вузовки. Рывки в Ленинград, Москву и прочим искусствам.
Когда все закрутилось, я сожрал девичью банку меда, тоскующую на антресолях. Там же, а я был любопытен как мышь, была найдена общая тетрадь со стихами. Помню только из одного, ощетинившегося восклицательными знаками, —
Вот! Ты! О! Стройная! Береза!
В снегу–та–та–та та–та–та!
И ноги гладила тебе…
Совершенно белые стихи.
Все понятно.
У нее была какая–то закавыка с одной из них. Но мне это все равно.
Когда девицы прибегали упряжью, борзой тройкой, проверять свое хозяйство, то три стула мы чем–то несъемным занимали, чтобы они не залезли на антресоль, где лежала их разоренная коновязь. Где мед когда–то помнил их неумолчное пчелиное гудение и конское хрумканье. Теперь в антресолях жило беспамятство. Банка была промыта до слез, как вдова. Я выливал в нее чай, пока не растворил весь сладкий налет. А что? Ведь мед — это налет пчел.
Запомните, трехлитровая банка содержит четыре с половиной килограмма темного засахарившегося гречишного меда. Девственники, монахи (люди с возвращенной девственностью) любят сладкое, а я тогда был девственником.
Мы втроем любили сладкое, ведь непорочность была и твоим главным качеством.
После меда был укорочен и раскладной диван, часть горделивого девичьего гарнитура, но я еще не участвовал в его окороте.
Со дня на день мы ждали тройку борзых.
С диваном же история случилась небезынтересная. Его раздолбала пара друзей — профессор Баксин, доктор философии, спец по материалистической теории времени, темпоралист, и лучшая подруга, конечно, ее, Любаша (соискательница философского чина). Вместе они весили на сорок килограммов больше, чем выдерживал диван в позиции спокойного старушечьего сна.
Итак, мы снялись среди ночи.
Книги, уложенные в мертвый холодильник, были перевезены заранее.
Диван в меду — любимое конское лакомство — терял последние винты сам по себе.
Три мешка с чайниками, тарелками, наливной резиновой грелкой и прочим переменчивым скарбом звякали на всю темную округу.
Их жизнь, а потом и моя так и стоит у меня в памяти посудным звоном.
Колокольчик, дар Валдая утомительно звенит.
У них ничего своего не было. Всё кто–то что–то дарил. Валдай, например, — электрочайник со свистком. Стив — медный пестик. В ступке его иудейская жена что–то глупо копила.
Читать дальше