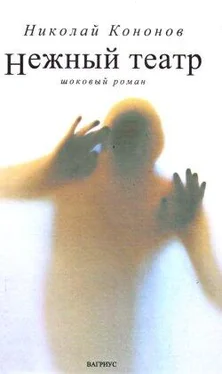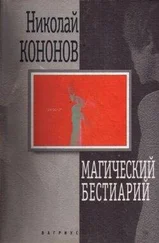Несколько междометий, которыми он оценивает табак. Произнося их, он не попадает в фокус своих жестов. От этого напряжение повисает в его каморке. Муха прилипла бы к этой невидимой ленте. Такой мгновенный промельк. Так в ночной грозе бесшумная молния высвечивает чудный ландшафт. Несколько далеких звеньев сдвигаются в чудную видимость.
Когда немцы оккупировали Эльзас, его призвали в вермахт, а потом он попал в плен, который поглотил его. Он был просто смыт, как мелкий камень волной. Помнил ли он те события, их частности, детали, понимал ли большие смыслы? Видел ли себя со стороны в немощи и отчаянии?
Он не смел представить себя и Ионой в чреве кита, так как чувствовал, что никогда уже не будет выблеван.
Письма, которые молодой пленный француз писал и бросал в щель в полу телячьего вагона, что катился на восток, на восток, на восток, писал, жестоко расплатившись за карандаш и клок бумаги, никуда отправлены не были. Первое русское слово, которые он выучил было «пиши». Удвоенный глагол: «пиши-пиши».
Поезд трижды обогнул Земной шар, – так могло подуматься ему. Потеки мочи, замерзнув на полу телячьего вагона, днем от людского шевеления оттаивали, а ночью снова подмерзали от их неживого покоя. Утром умерших подтаскивали к дверям. Время суток отличалось только этим. Он мог перестать верить в свое существование. Будто его тоже пролили, как урину. Он не чувствуя себя, исчезал, – могучее неодолимое движение его истирало. Обращало в ветхость и отринутость. От всего, что было когда-то им. Где? Как давно? В каком образе?
Смысла в этих вопросах оставалось все меньше и меньше, и они окончательно обессмысливались, когда состав останавливался и двери съезжали в сторону, трупы скидывали на насыпь, оттаскивали дальше, и вот непомерный морозный ландшафт, клок мифического леса, высоченные перезревшие небеса вламывались в него. Он понял, что в его новом бытии времени не будет.
Мизантропическое видение переполняло его.
Он оказался в людской гуще, где никто не понимал его, и он не чувствовал их ненависти; их сплоченность притесняла его другими качествами – монументальностью, массивностью, неукоснительностью и низким, каким-то стелющимся регистром их психической силы. Были ли эти люди его врагами?
Его страх сменился апатией.
Он понял простую истину, что если жизнь, даденная ему неизбежна, то в любой форме – возможна.
Время невероятных потрясений все оборачивало вспять. Оно не поучало, а притупляло. И вот через годы он перестал понимать, как попал в полосу мучений. И если бы за те муки, что он претерпевал, его наградили, то он бы не понял, – а что такого он сделал. Ибо и муки стали незаметны. И он оказался смешан с этой жизнью, она в него проникла, не оставив зазора между тем, чем был он сам по себе когда-то, и тем, каковым он стал себя претерпевать. Как сказано в псалме: «сердце стало мое как воск». Это сказано о любви, но применимо и к нему, так как с животными днями своей жизни он достиг компромисса, и дни уже не терзали его. Ведь они, чужие и дикие, стали и его жизнью, оплавляя его по своей форме, как безропотного любовника. Он чувствовал, что попал в разгул неукротимых желаний, страстей и праздности. И даже родной язык стал жить в нем не как остров, куда никто не мог попасть, а как всполох, зарница, территория смешения безнадежности и безразличия. Если такое бывает…
Плен, лагерь, больница, поселение, женитьба, надзор. Мизерность этого списка никогда не ошеломляла его.
Вряд ли кто-то может усомниться в этом, ведь числа были слишком велики. И что же такое – законы вероятности, если не произвол календарного часа, робости вещества и безразличия усилья.
То, что с ним случилось и произошло, упразднило единственный вопрос его жизни – «почему?», и «отчего именно с ним?». Таких вопросов никто не задавал.
Скудость собиралась в уклад жесткой аскезы. Ни одну вещь в этом доме нельзя было сдвинуть, чтобы не поколебать равновесия. Не предметы, а символы безучастия, стоящие в отдалении друг от друга на подоконнике и придвинутом к нему столе, образовывали корпорацию. Остолбеневшая пачка поваренной соли с воткнутым ножом, смыленный зубной протез положенный на коробок спичек, битая эмалированная кружка, полная спитых чаинок, – составляли аффект опасности столь глубокой, что становились образом косности, прекрасной в своей завершенности. Они словно поджидали живописца, чтобы тот передал их тщету и конечность. И искренность этой тоски окажется непомерной, стечет с холста, оставив только след. Ну, как у Бэкона.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу