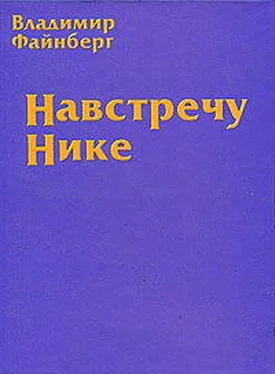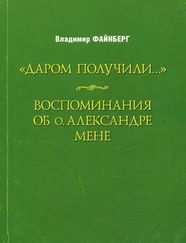Пассажиры выволокли А. М. из троллейбуса, сдали милиции.
Суд был скорый, с моей точки зрения, справедливый. Но целых три года тюрьмы…
Через пять или шесть месяцев его перевели на стройку за колючей проволокой. Заключённые в качестве бесплатной рабочей силы возводили многоэтажный дом. Жили рядом в бараках, охраняемых вооружёнными солдатами и овчарками.
Вместе с его матерью я приезжал на свидания, привозил передачи.
«Пользуешься свободой, небось пишешь стихи, – поднывал А. М., – а нам в суп кладут какие–то шарики, убивающие половую энергию. Я их вылавливаю ложкой и выбрасываю».
Однажды поздним зимним вечером он умудрился позвонить мне со своей стройки.
— Говорю из прорабской. Идиоты забыли запереть её на ночь. А тут телефон. Что ты сейчас делаешь? Стихи пишешь?
— Читаю удивительную книгу Шкловского «О Маяковском». Закончу – привезу.
— Поехал бы лучше к Лёвке Опольеву сыграть в преферанс или, по крайней мере, в подкидного. Сегодня суббота. Там всегда собирается компания… Сыграл бы и за меня на деньги! Займи мне на игру, мать отдаст. А? Ну, раз не хочешь, сходи хоть в тот же «Пивбар» на Пушкинской, выпил бы пивка за меня… Раков сейчас к пиву дают?
— Не знаю. Давно не был.
— Сидишь дома, как в тюрьме! Не используешь свободу.
…Ты спросишь, зачем я пишу об этом человеке?
Да, наши пути все больше расходились. Но всё–таки это был первый мой друг. Безусловно способный поэт, о чём свидетельствуют некоторые строки его ранних стихов. Неразвившийся, безвольный, он соблазнялся любой халтурой, нещадно курил. Последние годы плохо себя чувствовал, жаловался на то, что при ходьбе болят ноги.
К тому времени Господь вывел меня на отца Александра Меня.
Я стал христианином.
И в этом А. М. усмотрел повод для зависти. «Вот, знаешься с самим отцом Александром. Чем ты его приворожил, что он бывает у тебя?»
В конце концов, я заставил приятеля прочесть если не всю Библию, то хотя бы Новый Завет. Много рассказывал ему о Христе. Пожалуй, никогда в жизни мы не говорили так серьёзно.
И он крестился.
К моему изумлению, исправно ходил в церковь, исповедовался, причащался.
Но примерно через год приковылял ко мне бледный, с трясущейся в зубах сигаретой.
— Что случилось?
— Знаешь, не хотел говорить, уже несколько раз, как встану в храме или дома перед иконами, из меня вместо «Отче наш» лезут матерные слова… Вслух! Не могу остановиться…
Вскоре у него началась гангрена. И вот как–то совсем не прекрасным утром его повезли в каталке длинным коридором хирургического корпуса в операционную. Отрезать ногу.
По пути он увидел на стене телефон–автомат. Умолил санитаров приостановиться, набрать мой номер.
— Володя! – услышал я рыдающий голос. – Володенька, как ты думаешь, может быть отказаться от операции? Страшно стать одноногим… Как скажешь, так и будет.
— Слушай внимательно. Я всю жизнь практически скачу на одной ноге. Станешь похож на пирата Сильвера из «Острова сокровищ». Будь мужествен, не бойся, пожалуйста, ладно?
— Володя, молись за меня!
…Только его подвезли к дверям операционной, как он умер. В сердце попал тромб.
Так вот, Никочка, от него ничего не осталось. Ни одного цельного, законченного стихотворения. Ни ребёнка. Кроме меня, о нём больше некому вспомнить.
Между прочим, про мои напечатанные стихи и прозу он мне ни разу слова доброго не сказал. Зато через несколько лет после его смерти всё тот же Лёва Опольев сообщил: когда первым изданием вышла книга «Здесь и теперь», А. М. позвонил ему: «Володька Файнберг написал офигенный роман, почище, чем у Хемингуэя!»
… Вдруг кто–то обнимает мои колени.
— Никочка, девочка, соскучилась?
Молча смотришь снизу вверх. Схватываю на руки, прижимаю к груди, чувствую сердцем, как бьется твоё.
Ты прекрасно знаешь, над чем я работаю.
Вот и сейчас в самолёте, вдруг заботливо спрашиваешь:
— Ты уже кончил писать книгу для меня?
— Нет. И в Италии буду, если никто не станет мешать…
— Не станет. Пиши хорошо, чтобы интересно. Про что ты пишешь?
— Про тебя, себя, маму, разные события, разных людей…
— Про каких – плохих или хороших?
— Стараюсь – про хороших. Только не очень получатся. Никто в мире, кажется, подобных книг не писал. Трудно, не на кого опереться.
— У тебя же палочка! А если ты и в Италии будешь всё время писать, с кем же я буду купаться?
— С мамой. Я тоже надеюсь плавать. Утром и вечером. Только далеко.
Читать дальше