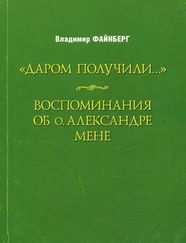Георгий Сергеевич вспомнил, как однажды зимой Юрка Новиков, сосед по парте, зашел к нему под вечер, предложил вместе отправиться на каток. Предложение было нелепым, если учесть отрезанную ногу. Протеза тогда не было, скакал на костылях. Но он пошел с Юркой, потому что вскоре должны были вернуться с работы родители, а они тогда вечно ссорились. Дома было нехорошо.
Георгий Сергеевич вел машину и отчетливо видел перед собой тот огромный двор в центре Москвы, кажется, где‑то возле Петровки или Столешникова переулка, куда его привел Юрка. Разноцветные лампочки над катком, где под музыку из «Серенады Солнечной долины» кружили конькобежцы.
Не заходя в раздевалку, Юрка сел на скамейку, снял валенки, надел ботинки с коньками и выехал на лед. А он, Георгий, остался мерзнуть рядом со своими костылями.
Пестрый, косо заштрихованный падающим снежком мир катка был полон девушек в меховых шапочках. Парней почему‑то было немного, и среди них выделялся один— красавец в пушистом белом свитере, лихо закладывающий виражи. Катался он на коньках, о которых тогда никто и мечтать не мог. Это были высокие серебристые «Космос–оригинал».
К нему‑то и подкатил Юрка. Вроде что‑то передал. Потом они катались порознь.
Со стороны было хорошо видно, что свои виражи красавец все чаще закладывает вокруг рослой девицы в коротеньком коричневом полушубке. Двигалась по льду она плохо, порой падала, и всякий раз он галантно помогал ей подняться.
Наконец ей, видимо, надоело получать синяки, и она покатила к раздевалке. Красавец направился вслед.
Раздевалку эту, куда его привел Юрка, Георгий Сергеевич запомнил особенно хорошо. Из‑за тепла и длинного, накрытого белоснежной скатертью стола со сверкающим самоваром, вокруг которого теснились стаканы в подстаканниках, стояли тарелки с нарезанными ломтиками лимона, бутербродами с колбасой, сыром, черной и красной икрой. Здесь же можно было выпить рюмку коньяка или водки.
Но ярче всего запомнилось Георгию Сергеевичу, что, когда они с Юркой вошли, буфетчица— дородная тетка в накрахмаленном кружевном чепце и переднике, стоя на коленях перед диваном, на котором сидел красавец в белом свитере, расшнуровывала ему ботинки с коньками.
— До чего хорошенький–пригоженький, — приговаривала она. — Мамочка звонила уже, беспокоилась.
Он и вправду был красивый, белокурый. К тому же замечательный апельсиново–нежный загар покрывал лицо.
«Хорошенький–пригоженький» пригласил его и Юрку сесть рядом на диван, угостил бутербродами, чаем, поинтересовался, что с ногой, сказал: «Считай, повезло. В армию не загребут». А когда к столу подошла высокая девица, он как бы невзначай предложил довезти ее до дома на машине.
— Я и сама способна взять такси, — горделиво ответила она.
— Зачем? У меня свой «Форд», — небрежно ответил «хоро- шенький–пригоженький» и добавил: — Меня, между прочим, зовут Эдуард. А вас?
— Нина.
С этой минуты она, как говорится, была уже вся его. Стояла у стола, обжигаясь, пила чай.
Тем временем Эдуард вышел в гардероб.
«Конечно, трепло, — не без зависти подумал тогда Георгий. — Сын каких‑нибудь шибко ответственных работников. Всего года на два старше нас. Приедет за ним папочка на машине, и все дела».
Но вот он появился. Еще более красивый, щеголеватый, неожиданный в новенькой, с иголочки, лейтенантской форме, надраенных до блеска сапогах.
Скорее всего чтобы скрыть замешательство, Георгий Сергеевич спросил:
— Слушай, где это ты так загорел?
— В Барселоне.
— Где–где?
— В Испании, на курорте. — Он надел шинель и бросил взгляд на девицу, торопливо дожевывающую бутерброд.
— Врешь! В Испании фашизм, Франко. У нас с ними ничего общего. Нет даже дипломатических отношений.
Вот тогда‑то «хорошенький–пригоженький» тихо, но внятно произнес: — Политика— это для засранцев. А есть кое‑что еще. Для белых людей.
После Георгий Сергеевич, стоя на улице с Юрой, видел, как он садится за руль заграничной машины и открывает дверцу девице в коротком полушубке.
Вот к этому человеку, так неожиданно объявившемуся через полвека он сейчас и ехал.
…«Хорошенький–пригоженький» долго не открывал дверь. Георгий Сергеевич снова нажал кнопку звонка, потом еще раз.
В эту минуту он осознал, что алчет только этих чемоданов с марками. Его собственная коллекция марок, к которой он давным–давно не притрагивался, в девятнадцати толстых альбомах стояла за стеклами книжного шкафа, совсем забытая, и ему удивительно было чувствовать, с какой силой вспыхнула в нем сейчас надежда пополнить ее множеством почти наверняка редких, уникальных экземпляров.
Читать дальше