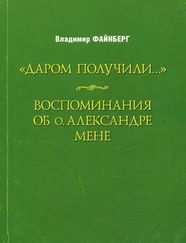— Погоди, погоди. Так это твоя статейка была года два назад в газете? Про город для ГЭС. Помню. А я тогда подумал: однофамилец. Ты же стихи писал! Я их до сих пор не забыл. Бросил, что ли?
— Не будем об этом говорить.
— Не будем так не будем. Хозяин — барин. А что до твоей коллизии с Атаевым, то жаль, конечно, человека, только все они сами во всём виноваты. Вот теперь и хлебают. За грех великий.
— Как это понять?
— Очень просто. Строят заводы, фабрики, комбинаты один за другим. А ведь каждый из них свои заводы требует, свою сырьевую базу, энергетическую, ремонтную и так далее. До бесконечности. Ты слушай, слушай меня, небось я подольше в этом варился… Прорве конца нет. Дурная бесконечность. Так во всём мире, сам видел. Заводы плодят заводы. Всю землю изгадили. Мир сошёл с ума. Если даже отбросить вооружение, сколько ненужного навязано людям. Хоть верь в нечистую силу. И заметь: темп все убыстряется — конвейеры, страшней, чем у Чаплина. Раньше мы ругали — потогонная система. Теперь — и у нас. А на хрена все эти автомобили, джинсы, мода? Обычные портки чем плохи? А зайди в любой галантерейный магазин, хоть здесь, хоть в Нью–Йорке, уйма ненужного барахла — конец света!
— Выходит, твои валенки — вызов современному миру?
— Ни хрена! Я, если ты заметил, в дублёнке пришёл, да и на своей «Волге» подъехал, что я — хуже всех буду жить, раз они такие? А для души у меня в Тверском уезде деревянный дом с садом и пчёлками. И рыбку ещё есть где половить. Хочешь — приезжай.
— Спасибо. Послушай, а как же ты с такой установкой пишешь как раз о производстве, о рабочем классе?
— Есть‑то хоца. Семья. Три дочки, — мрачно ответил Афанасий. — Это мой огород, считаюсь специалистом. По–хорошему, надо бы завязать и перейти на повести для детишек — святое дело.
— И ещё одного не пойму, — помолчав, спросил я, — при чём тут кооперация новозеландских или там австралийских фермеров?
— А это я потихоньку перекидываюсь и на сельхозтематику. Кого жалко, Артур, так это землю. Давай допьём! Знаешь, за что?
— За землю?
— Нет. За твоего Атаева.
Мы чокнулись кофейными чашечками, выпили. Афанасий степенно утёр бороду, взял бутерброд.
— Небось сам видел, у нас хороших людей, как этот Атаев, много. Слава Богу, не до конца оскудели. Только если все это у тебя написано, как рассказал, статью или же не напечатают, или же кастрируют.
— Подумаешь, открыл Америку! Ладно. Мне пора ехать.
— Да не горячись. Всегда ты горячился. Я поднимусь к нашему любезному Анатолию Александровичу, прочту материал, вместе подумаем, что да как.
— Подумайте. Пока!
— Будь здоров. Вот ведь какой. Как это получилось — я о себе все выложил, а ты о себе — почти ни слова.
— Не о чем рассказывать. Будь здоров!
И пока ехал в клуб, пока хронометрировал там отобранные номера, договаривался с членами изокружка о новой тематике рисунков, я не мог избавиться от непонятного, тяжёлого осадка после этой встречи, от собственной правды — «Не о чем рассказывать».
Мне казалось, действительно не о чем было рассказывать.
Я не был в Новой Зеландии.
У меня не выходили книги.
Не было ни детей, ни деревянного дома.
Не было той основательности, своего места в жизни, которые были у Афанасия, у того же Анатолия Александровича, у Нурлиева, у Невзорова, у Паши с Ниной, не говоря уже о членкоре Гоше.
Даже пальто — с чужого плеча, даже работа — случайная. Статья и та могла не пройти.
Вечером, вернувшись домой, первое, что я услышал от матери, было: «Никто не звонил».
«С чего это я сломался? — Я лежал навзничь на тахте, не включив света. — Позавидовал Афанасию? Он и сам по–своему несчастен, пишет о заводах, которые ненавидит, носит в своей почке камень, может быть, собственную смерть… Анатолий Александрович? Вот уж кому не позавидуешь — вечная трусость, гомеопатические расчёты, кажется, сто лет работает в газете и каждый день боится, чтоб не выгнали».
Я перебирал в памяти всех, с кем виделся в последнее время, — никто не был счастлив. Вспомнилась жуткая гримаса на лице Гоши и Анны Артемьевны и то, как эта женщина, роскошная, всем обеспеченная, сидела, держась пальцами за виски. Вспомнился Атаев со своим ключом на шее…
И тут я понял, что произошло. Афанасий, Анатолий Александрович, сами того не желая, предельно унизили меня, поставили на место — я был бессилен что‑либо сделать для Атаева. Бессилен. Не качество статьи решало вопрос, а соображения, не имеющие никакого отношения к здоровью рабочих комбината, жителей кишлаков, к судьбе Атаева. «Но ведь так всегда. За множеством случаев не видят отдельную человеческую судьбу. Огрубели. Покрылись коростой. Хорошие люди. Прогрессивные. Сочувствующие. Да они седого атаевского волоса не стоят».
Читать дальше