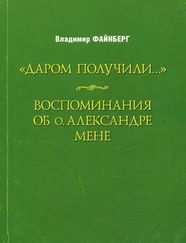— Рад.
— И ещё тебе звонил какой‑то Нурлиев.
— Из Москвы?
— Не знаю. Сказал, ещё раз позвонит. Скорей приходи!
«Наверное, скучно ей быть со мной, — подумал я, — ни в кино, ни в театр… У самой несчастье — у меня мать умерла…»
Решил по дороге к дому зайти на рынок, купить хоть букетик цветов для Анны.
Вот уж где пахло весной, так это здесь, на Центральном рынке. Шел меж цветочных рядов, где на мокрых лотках стояли ведра с мимозой, розами, гвоздиками; высились горки спрыснутых водой фиалок и подснежников.
Я уже хотел купить фиалки, уже достал деньги, когда сквозь рыночный гомон послышался крик:
— Эй! Эй! Поди. Поди сюда! Пожалуйста!
Давно не бритый человек в круглой кавказской кепке-«аэродроме» зазывно махал рукой из соседнего ряда.
— Вы меня?
— Тебя! Тебя! Очень прошу, иди ко мне!
Подумав, что это действует наглая форма конкуренции среди продавцов, я все же подошёл.
— Цветы надо? Бери сколько хочешь! — Кавказец широким жестом показал на лежащий перед ним целлофановый мешок с грудой роз.
— А почём штука?
— Даром бери!
— Почему?!
— Ты что, меня не узнаешь? Я Аполлон Гвасалия!
— Извините, не узнаю.
— Слушай, разве не ты мать мою спас? Вано знаешь? Тамрико знаешь? Ну вот, Тамрико — её племянница. Теперь у матери сердце не болит, дай Бог тебе здоровья! Я её привозил во двор к нашему учителю Отару! Теперь помнишь?!
Я решительно не мог вспомнить ни Аполлона, ни его мать, но кивнул.
— Бери розы! — потребовал Аполлон, сгребая с прилавка тяжёлый целлофановый мешок и протягивая его мне. — Люди! Этот человек может все!
Увидев, что на меня обратились взгляды продавцов и покупателей, я в замешательстве выдернул из мешка одну розу.
— Спасибо.
Сутулясь, быстро пошёл к выходу, спиной чувствовал, как народ смотрит вслед.
Подходя к дому, ещё издали увидел у подъезда длинный чёрный лимузин.
Дверь открыла Анна.
— У тебя гость, — сообщила она и просияла, увидев розу; — Это мне?!
Я отдал розу, не раздеваясь, вошёл в комнату. Тимур Саюнович шагнул навстречу.
— Уже знаю про маму, прими мои чувства. — Он обнял меня, крепко прижал к себе. — Теперь считай старшим братом. Один не останешься.
Я почувствовал, что меня душат слезы, шепнул:
— И Анна есть.
— Хорошая женщина. Красивая, — сказал Нурлиев. — Стой, не снимай пальто. Я, правда, немного опоздал. — Он открыл свой «дипломат», достал папаху из золотистого каракуля, встряхнул её. — Увидел, как вашей московской зимой ходишь в кепке, решил привезти головной убор. Разреши, надену? Не знал размера твоей головы, наугад пошил.
— Сами? — Я стоял перед ним в пальто и папахе.
— Что это за басмач? — спросила Анна, входя с наполненной водой узкой вазочкой, в которой высилась роза, и ставя её посреди стола. — Через час придёт Нодар, сядем обедать. Хорошо?
— Спасибо, — ответил Нурлиев. — А мы пока поговорим.
Анна оставила нас вдвоём, ушла на кухню. Я наконец разделся.
— Ну что? — спросил Нурлиев. — Снял своё кино?
Я рассказал о том, как зарубили картину, как меня убрали со студии.
— А ты апеллировал, рыпался?
— Всю жизнь рыпаюсь. Бесполезно. Устал.
— Ну и что теперь?
Я поведал о недавней поездке в Грузию, о случае, происшедшем только что на рынке, кивнул на розу:
— Вот весь результат.
— Дорогая роза, — сказал Нурлиев. — Очень дорогая. Сколько понимаю, ты стал вроде дервиша. А такой профессии в наших списках нет. Растеребят тебя люди. Попадешься какому‑нибудь дураку — сочтут сумасшедшим или, ещё хуже, могут посадить…
— Я уже думал об этом. А что делать? У вас у всех есть какая‑то точка, прикрепляющая к жизни. Анна вот математик, в школе работает, вы между прочим первый секретарь… Я же — ничто.
— Ты — всё, — сказал Нурлиев. — Один раз я тебе это уже говорил. Знаешь, нужно скорей найти учёных, институт, чтоб все это дело исследовали…
— Ни за что, — твёрдо сказал я. — Уже исследовали. Других людей. Пытаются подогнать непонятные явления к привычным представлениям. Быть подопытным кроликом, чтоб при помощи тебя компрометировали то, что древнейшие народы в разных концах земли, не сговариваясь, записали в своих священных книгах? Пусть по–разному, каждый — в своей образной системе. Но об одном и том же… Я уверен, убеждён — прав Циолковский: не человек мера всех вещей!
— А кто же? — удивился Нурлиев.
— Космос. Скажем так. Только в соизмерении с Космосом раскрывается человек. Если б вы знали, что я порой вижу, когда настраиваюсь на окружающую земной шар бездну!
Читать дальше