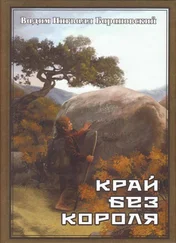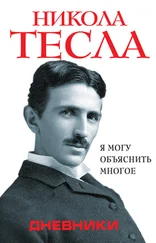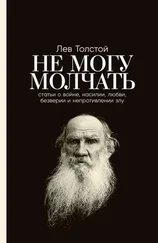Табурин пытался спорить. Он даже сердился, когда Юлия Сергеевна, не слушая его, упрямо повторяла: «Нет, нет! Виновна я!»
— Да поймите же! — выходил из себя Табурин. — Если бы я мог хоть на одну секунду предположить, что Георгия Васильевича убил Виктор, то я, может быть, в какой-то тысячной доле согласился с вами: да, и вы виноваты! Тогда чуть-чуточный кусочек правды, может быть, был бы в ваших словах, вы тогда были бы в чем-то виноваты! Косвенно виноваты, без вины виноваты, но… виноваты! Тогда я не спорил бы! Но подумайте же вы в конце концов, что убил не он! А если убил не он, то при чем же вы? В чем вы тогда виноваты?
Юлия Сергеевна ничего не говорила в ответ, не спорила и не возражала, а глубоко и пытливо взглядывала на Табурина и чего-то искала в нем своим взглядом.
Об убийстве, о Викторе и о своей вине она говорила только с Табуриным. Даже с матерью не говорила об этом, и обе старательно избегали вспоминать об убийстве. Но иногда ее разговор с Елизаветой Николаевной невольно начинал касаться того, о чем обе молчали, и тогда обе старались говорить какими-то общими словами, неопределенными фразами и недоговоренными намеками. Но с какой бы неопределенностью ни говорила Елизавета Николаевна, как бы ни скрывала она от дочери свои мысли, какие бы осторожные слова ни подбирала она, Юлия Сергеевна видела, что Елизавета Николаевна не сомневается: убил Виктор. И поэтому обе старались не произносить этого имени, даже чересчур явственно избегали его, и, если уж никак нельзя было не назвать, говорили без имени: «он».
Несколько раз Табурин пытался убедить и Елизавету Николаевну в том, что «Виктор не мог убить». Она не спорила, но с непонятным лицом начинала смотреть куда-то в сторону и переводила разговор на что-нибудь другое.
Никто ни с кем не сговаривался, но почему-то установилось так, что ни Елизавета Николаевна, ни Табурин в присутствии Юлии Сергеевны не вспоминали Георгия Васильевича и не говорили о нем. Они, конечно, не хотели делать ей больно, и не догадывались, как сильно она хочет их слов и воспоминаний о нем. Когда однажды Елизавета Николаевна нечаянно вспомнила вслух о том, как Георгий Васильевич (еще до болезни) любил в свободные часы выходить в сад и копаться в грядках с цветами, Юлия Сергеевна еле сдержалась: так сильно, так невыразимо сильно, почти страстно захотелось ей вот и сейчас выйти с Георгием Васильевичем в сад и начать сажать луковицы тюльпанов или пропалывать густые поросли анютиных глазок. Каждое слово о Георгии Васильевиче причиняло ей боль, но каждое слово приносило и грустную радость.
Могло показаться, что жизнь семьи начинает становиться обычной. Но Юлия Сергеевна смотрела с недоверием и болезненно всматривалась: то ли вокруг нее, что было и раньше? И видела, что изменилось многое, главным образом — люди. Первую неделю, когда Виктор еще не был арестован, все вокруг нее много говорили об убийстве, жалели Георгия Васильевича и в один голос уверяли, что они ничего не понимают:
— Кому это было нужно? Зачем это было нужно?
Все были преувеличенно заботливы к Юлии Сергеевне, все были участливы, говорили ласковые слова и пытались утешить. Во многих, может быть, была фальшь, но была и искренность, которую чутко улавливала Юлия Сергеевна и за которую была благодарна. Когда же Виктора арестовали и когда стало известно, в чем обвиняется он, а газеты стали беспощадно называть имя Юлии Сергеевны, люди изменились. Никто от нее не отвернулся, знакомые начали чаще навещать ее, но было видно, что приезжают они с задней мыслью, пачкающей и обидной. Поэтому их присутствие было тягостно. Они уже не говорили об убийстве и даже старательно не упоминали о нем, никогда не называли имени Виктора, а очень натянуто и принужденно говорили только ненужное, притворяясь заботливыми и внимательными. И, просидев до неприличия недолго, под каким-нибудь неудачным предлогом поспешно уезжали, не стесняясь переглядываться друг с другом.
— Это даже невежливо! — возмущенно жаловалась Табурину Елизавета Николаевна. — Словно не скрывают, что приехали только затем, чтобы «посмотреть»… А на что смотреть, спрашивается?
Самым невыносимым в их посещениях было не то, что они говорили, и даже не то, чего они не говорили, а то, как они смотрели. Люди были разные и, возможно, что они смотрели по-разному, но Юлии Сергеевне казалось, что у всех них одни глаза и один взгляд: обостренный, ищущий, что-то блудливо разнюхивающий, а вместе с тем хищный. Было видно, что каждый хочет что-то узнать, во что-то проникнуть, найти какой-то след и в чем-то воочию убедиться. Они не смотрели, а откровенно шарили глазами по лицу Юлии Сергеевны и при этом даже затаивали дыхание, как собака на стойке. Юлия Сергеевна находила в себе силы сдерживаться и притворялась, будто ничего не замечает, и даже улыбалась, когда это было нужно. Но, оставаясь одна, она всякий раз до боли закусывала губу и начинала тяжело дышать. И у нее было такое чувство, будто ее нехорошо обидели, даже запачкали чем-то нечистым.
Читать дальше