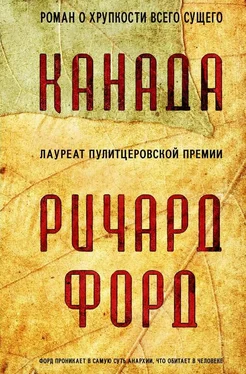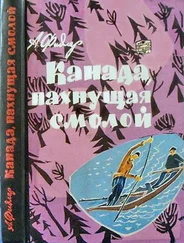Конечно, я был счастлив уехать, очень счастлив. Сидя после выстрелов в машине Ремлингера — еще до того, как мы избавились от трупов, — я окинул взглядом «крайслер» американцев, окутанный тьмой и снегом Партро и решил, что это место создано для убийств: городок пустоты и взятых назад обещаний. Мне почти удалось сбежать оттуда, думал я, но только почти. И сейчас, сидя в автобусе, покидавшем Форт-Ройал и Саскачеван, я чувствовал, что мне, похоже, предоставляется последний шанс.
Пока автобус продвигался на восток, я почти не думал о том, что оставляю в прошлом. По этой части я никогда силен не был. Для того чтобы я всерьез задумался о каком-то событии, ему следует уйти в землю, а после появиться из-под нее естественным образом. В противном случае я о нем забываю. Мне и на миг не пришло в голову, что все случившееся станет в дальнейшем окрашивать мои мысли о родителях и их куда более мелком преступлении. Как ничто и не укрепило моей веры в возможность когда-нибудь снова увидеть их — хоть я и желал этого. Различные применения, найденные для меня Ремлингером, — сначала я был его слушателем, потом якобы интересным ему человеком, потом исполнителем роли его сына, потом ручательством его безопасности, его свидетелем и соучастником — никакой радости мне не принесли. Но, как бы там ни было, они не помешали мне подняться по ступеням автобуса и не лишили будущего, которого я для себя жаждал.
Думал ли он, что я могу проболтаться об увиденном? Уверен, мысль, что я способен взять да и рассказать о том, что я видел и в чем участвовал, не посетила его и на секунду — мне это было по силам не больше, чем американцам, лежавшим в их убогих могилах. Есть вещи, рассказать о которых человек просто не в состоянии. Скажу честно: поняв, что Артур знал меня по крайней мере настолько, что все-таки уделял мне хоть какое-то внимание, доставила мне мелочное удовлетворение.
Милдред Ремлингер советовала мне допускать в круг моих размышлений столько всего, сколько удастся, не позволять моему разуму болезненно застревать на чем-то одном, помнить: у меня есть в запасе что-то, от чего я могу отказаться. Да и родители мои тоже высказывались в пользу всеприятия. (Гибкости, так называла это мама.) Настанет время, и я обрету способность растолковать себе все случившееся — где-то. Как-то. А может быть, и сестре, Бернер, — я не сомневался, что еще увижу ее до того, как умру. Пока же следовало попытаться найти некий средний путь между рекомендованными мне достойными качествами: великодушием, долголетием, всеприятием, отказом от лишнего — раскрыться навстречу миру и построить на этом жизнь.
Я всегда советую своим ученикам: поразмыслите о долгой жизни Томаса Гарди. Родился в 1840-м. Умер в 1928-м. Подумайте обо всем, что он видел, о переменах, свидетелем которых стал за столь долгое время. Я стараюсь подтолкнуть их к разработке «концепции жизни», к включению воображения, к попыткам увидеть в своем существовании на планете не просто череду бесконечно разворачивающихся случайных событий, но жизнь — и абстрактную, и конечную — как способ инвентаризации этих событий.
Я рассказываю им о книгах, описывающих, как я втайне полагаю, начальную пору моей жизни, — о «Сердце тьмы», «Великом Гэтсби», «Под покровом небес», «Рассказах о Нике Адамсе», «Мэре Кэстербриджа». Путешествие в пустоту. Покинутость. Некто, возможно, загадочный, а в конечном счете — нисколько. (Нынче канадские старшеклассники этих книг не проходят. Кто знает — почему?) Я усматриваю в них метафору «пересечения границы», адаптации, перехода от бездейственной жизни к действенной. И может быть, того, что, переступив определенную черту, ты уже никогда не сможешь вернуться назад.
А попутно я пересказываю ученикам если не факты, то по меньшей мере некоторые уроки, которые я получил за мою долгую жизнь: говорю, что, столкнувшись со мной, шестидесятишестилетним, сейчас, невозможно представить, каким я был в пятнадцать (а это когда-нибудь станет справедливым и применительно к ним); что не следует слишком ретиво выискивать скрытые и противоположные смыслы — даже в книгах, которые они читают, — а следует по возможности честно оценивать то, что само открывается им средь бела дня. Попытавшись ясно описать себе увиденное, вы и смысл в нем обнаружите, и научитесь принимать жизнь такой, какая она есть.
Им это таким уж естественным не кажется. Кто-то из них непременно заявляет: «Не понимаю, какое отношение это имеет к нам». Я отвечаю: «А почему все непременно должно иметь отношение к вам? Разве мир обязан вращаться вокруг вас? Разве жизнь другого человека не может дать вам полезных уроков?» Тут-то на меня и нападает искушение рассказать им о моих юных годах все; объяснить, что мое учительство есть последовательное усилие непокидания (их), призвание мальчика, который любил школу. И я каждый раз чувствую, что мог бы, будь у меня побольше времени, научить их очень многому, — а это дурной знак. Самое время отправляться на пенсию.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу