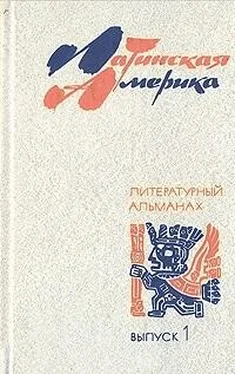И все же в конце концов она меня поняла. Похлопала ладонью по полу, как бы приглашая сесть рядом. Узкой ладонью, рука чуть дрожала.
— Нельзя. — Я старательно шевелил губами, она сидела далеко, а кругом стоял шум. — У меня чесотка.
Она улыбнулась. Но тут же мне досталось: Карлота провела ногтем по моей шее с такой силой, что выступила кровь.
— Белого или красного?
— Лей любое.
И зачем только я ввязался в эту компанию? Как теперь уйти? А для чего уходить, когда все так здорово? Завтра же начну заниматься йогой, о, мой гуру [38] Гуру — духовный наставник, учитель (санскр.).
. И иглоукалыванием тоже займусь. Да, сердце мое, вместе будем заниматься, только, ради всего святого, перестань меня царапать. Слушай, а втроем нельзя? А почему? «Махабхарата» запрещает? О, черт! Опять царапается!
— Ты похожа на блюдо с раскисшим желе.
— А ты мерзкий сопляк, — отвечала Карлота и крепко сжала меня мощными коленями. Вот как невинно мы развлекались; и тут дверь с силой распахнулась, и появился Маркиз.
Радостные клики, «ура», объятия. Пропели «Зеленый сельдерей» и под конец лихо пошвыряли на пол стаканы, а осколки в один миг засунули под ковер. Господин с вытаращенными глазами поздравил Маркиза, извинился и благоразумно стушевался. Наверняка он обладал даром предвидения и предчувствовал, что будет дальше.
Маркиза невозможно было узнать: на нем свитер болотно-зеленого цвета с большим отвернутым воротом, огромный берет, будто летающая тарелка, стоял над его головой, он с нежностью прижимал к себе огромную оплетенную бутыль с некой янтарно-малиновой жидкостью — нечто среднее между медом и мочой архиепископа.
— Сегодня мой день рождения, — заявил он, сияя. — Это именно тот напиток, которым Гарун аль Рашид угощал баядер. — Глаза Маркиза словно прыгали от радости.-
Вздыхаешь, барышня с нейлоновыми бровями?
Я проследил направление его взгляда — будто стрела, вонзался он прямо в лицо девушки в фиолетовом костюме. Но самое неожиданное вот что — она посылала Маркизу поцелуи, подмигивала, манила пальчиком…
Бутыль пошла гулять по кругу, все тянули из одного стакана — весельчак и унылый, здоровый и хилый. Пейдодна, пейдодна — не вредит стакан вина. А теперь сосед пусть пьет, наступил его черед. Да это просто спирт, градусов семьдесят в тени. Разбавлен немного черешневым соком. И еще ревенем как будто. Может быть. Чего-то горьковатого сунули для порядку.
— Прекрасный мой Маркиз, владетель маленькой лужицы, — возопила Карлота, протягивая к нему благоуханные руки, — ты вправду так горячо любишь меня?
Они обнялись над моей головой, и я чуть не потонул в волнах «Шанель 5».
Бутыль всего только дважды обошла круг и опустела. Появилась еще бутылка, потом еще, еще, море разливанное, буйное да пьяное, пей, пей, не робей, вода водочки вредней. Полная сумятица, вершина, предел возможного. Или, как выражался Мартин Фьерро, образовался небольшой бардачок и кое-кто нализался порядком. Лей, лей, не жалей! Черт возьми, черт побери, вот это так красавица, черт возьми, черт побери, до чего ж мне нра-а-а-а-вится, черт возьми, черт побери-и-и, до чего ж мне нра-а-а-а-а-а-ви-и-и-тся!
Ни с того ни с сего, не знаю, какая муха их укусила, кажется, Берни начал, вломились вдруг в политику. Десять глупостей и сто провокаций в минуту. Я не стерпел, наговорил много лишнего, и в частности посоветовал им заняться лучше шведской гимнастикой. Что тут поднялось! Толстяк с бородкой проклинал меня, прыщавый ругался последними словами. Все, как один, изрыгали юпитеровы молнии на дерзкого новичка. Маркиз же наслаждался, видя мою растерянность.
Спасла меня Карлота, благоразумная и исполненная материнских чувств. «Он мечтает о том же, о чем мы, — сказала она, — только свет не озаряет ему путь, а ослепляет его».
Не очень-то я понял ее философию, мне она напомнила светофор и правила уличного движения, однако бурное возмущение улеглось, мы радостно взялись за весла и, осененные гирляндами копиуэ, поплыли по тихой озерной глади; все мы были братьями, в любви и в искусстве, все мы любили друг друга, и опять пошло: карма, дхарма… рукоять меча… поучения Кришнамурти…
Один только Маркиз продолжал.
— Пью за мой день рождения, — проревел он (ловкий ход, я же его знаю, хочет добиться тишины). — Годом больше, годом меньше — какая разница? Уже много лет прожито. Это так, ай-ай-ай, как поется в грустной куэке. До смешного простая и жалкая история. Что такое одна жизнь? Тысяча жизней? Миллион? Хуже всего то, что историки ни черта не знают, одни только даты да имена. А почему? Хотите, вам скажу? Историки до сего времени не заметили одну особенность, она повторяется без конца, и, будто жалкая карусель, вечно вертится нищая великая история нашей Америки. Хотите, я вам открою, в чем эта особенность?
Читать дальше