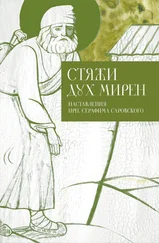И всё-таки я уже знал, что книгу надо делать. А после наших хождений по лабиринтам журнального текста я и другое знал, — что подготовку книги могу доверить только Ирине. Редакция у нас в издательстве чудесная, но так чуять текст — это совсем другое и редко бывает. К тому же в издательстве план, графики, сроки. Нет, тут необходим сторонний, свободный человек. Свободный, к тому же, в иных, и более высоких, смыслах.
Редакцию уговаривать не пришлось, уговорился и директор. С Ириной заключили договор. Дальше пошли чудеса.
В редакции «Октября» ничего по тексту прояснить не могли. Рукописи нет. Она была изъята, арестована и давно пропала.
А с чего же печатали?
«По случайно уцелевшему следу», как выразился Анатолий Бочаров.
Но намёки были. Даже такой, что есть, мол, где-то во вселенной нечто «тамиздатовское».
— Где?
Молчат, партизаны.
Связались с дочерью. Никакого толку. Показывает фотографии, байки про папу рассказывает…
Ирка мучает себя, затем меня. У неё, видите ли, ощущаемый внутренний ритм фразы не выражается её синтаксическим оформлением! Вот не было печали…
К примеру, фраза:
Но о своей работе, о той внутренней, о которой он говорил во всём мире с одной лишь Людмилой, он перестал говорить.
Ну и что? Смысл понятен. Нет — ей мало! Тут, говорит, скрыта экспрессия , она не проявлена…
Ещё фраза:
…читая даже близким друзьям записи своих, не доведённых до конца размышлений, он испытывал на следующий день неприятное чувство, работа ему кажется поблекшей, ему тяжело касаться её.
Опять что-то не то!
Ну, хорошо. Во втором случае можно применить двоеточие. Будет так:
…он испытывал на следующий день неприятное чувство: работа ему кажется поблекшей…
Нет, ей всё равно не то!
И вот, крутя-вертя, мучаясь и мучая других, Ирка по непонятному наитию прилаживает к ритмическому стыку сложный знак: запятую и тире.
Но о своей работе, о той внутренней, о которой он говорил во всём мире с одной лишь Людмилой , —он перестал говорить.
…он испытывал на следующий день неприятное чувство , —работа ему кажется поблекшей…
И стало видно, что запятая с тире работают! Всё стало на свои места. Да… но что сказал бы Гроссман?! Ирка звонит Екатерине Васильевне:
— Употреблял ли Василий Семёнович нетрадиционно запятую с тире?
— Да! Очень любил.
Потом догадка подтвердилась уже основательно, но об этом позже. И это только один пример работы впотьмах, на ощупь.
А время летело…
И статью, конечно, писала Ирка. А имя поставили Коротковой — для убедительности, что ли? — она же дочь! Я сплоховал.
В понедельник надо было категорически сдавать рукопись в набор, а в субботу Екатерина Васильевна вдруг надумала признаться, что у неё есть ксерокопия швейцарского издания романа, с которой работал (таки!) «Октябрь». Я встретился с нею в метро и взял ксерокопию.
Два текста, хотя и вышедшие один из другого, — это уже что-то. Но оставался один день. Присовокупив к нему ночь, Ирке удалось восстановить несколько купюр, сделанных в «Октябре».
Дальше было так.
Издательская работа приближалась к концу, уже пошла вёрстка. Редактор, к ужасу издательства, делает последние попытки угадать волю автора в многочисленных неясных и спорных местах…
И вдруг это случилось.
14 октября в издательство позвонил Фёдор Борисович Губер, сын вдовы Гроссмана, Ольги Михайловны Губер, и сказал, что должен незамедлительно приехать по делу чрезвычайной важности.
Нашлась рукопись романа!
Было трудно поверить. Но Фёдор Борисович открывает портфель, — и вот он, титульный лист романа, написанный рукою Гроссмана. Здесь и посвящение, о котором мы ничего не знали:
Моей матери Екатерине Савельевне Гроссман.
Откуда? Ведь все экземпляры рукописи арестовали. Даже копирку у машинисток забрали!..
К тому часу, когда на квартиру Гроссмана (по доносу Вадима Кожевникова) явилась оперативная группа для захвата романа, один экземпляр рукописи был уже надёжно укрыт.
У Гроссмана был друг детства Вячеслав Иванович Лобода. Прежде чем отнести роман в журнал к Кожевникову, Василий Семёнович, много жизнью учёный, отдал черновую, сильно правленую рукопись Лободе и попросил её сберечь. Лобода не дожил до того времени, когда негорящая рукопись перестала быть смертельно опасной. Продолжала хранить вдова. Так и хранила — в авоське, завёрнутую в полотняную тряпицу, как привёз её из Москвы в Малоярославец Вячеслав Иванович. При нежданных визитах вывешивала она эту авоську за окно, как привыкли вывешивать зимой продукты не имеющие холодильников простые советские люди. И даже потом, после публикации в «Октябре» и первых рецензий, долго ещё не решалась открыться. Может быть, уже не от страха — от привычки к нему.
Читать дальше