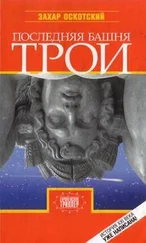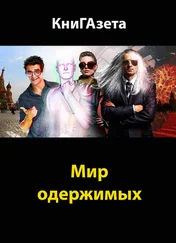Мужчины в курилке часто обсуждали фигуру Любы, и бюст занимал мужские умы больше, чем все остальные части ее тела. Подлинность размеров сомнений не вызывала, но скептики утверждали, что природа не способна придать нежной женской плоти такую чугунность, и что Люба пользуется какими-то особенными лифчиками. Из числа молодых специалистов находились добровольцы на прямой эксперимент: столкнуться с Любой где-нибудь в узком коридоре или привалиться к ее груди в столовской очереди и закрыть, наконец, вопрос. Но едва доходило до дела, решимость испарялась. Отпугивало надменно-скульптурное лицо Любы с гневными искрами в глазах. Казалось, ее огромное тело окружено невидимой броней ярости и презрения к роившимся вокруг насекомым-мужчинам. Говорили, что муж Любы меньше ее ростом и тощенький, бедняга, она троих таких смогла бы заслонить. Доходяге-мужу и завидовали, и сочувствовали. Над ним и посмеивались: не справляется с обязанностями. Детей у Любы не было.
Сейчас она сидела прямо перед Григорьевым, и его овевал потоками запах ее духов, ароматного лака для волос, горячего пота, источаемого могучим телом. На крутой, широкой спине Любы под «молнией» платья бугорком проступала застежка бюстгальтера. Григорьев, поглядывая из своего полусна, представил, что произойдет, если каким-то чудом тихо-тихо, незаметно для Любы раскрыть «молнию» и внезапно расстегнуть эту застежку. Как она вскинется и вскрикнет, и как мгновенно, словно гири, обвалятся под платьем вниз ее освобожденные груди!.. От этих дурацких мыслей он даже почувствовал прилив возбуждения, и ему стало смешно: взрослый мужик, двадцать шесть лет, отец семейства, а лезет в голову такая чушь! Как мальчишка, ей-богу, как мальчишка.
И вдруг — изнутри к горлу — стеснил дыхание такой толчок тоски и тревоги, что он вылетел из своей полудремоты. Отец семейства! Эти странные отношения с Ниной, разве похожи они на семейную жизнь мужа с женой? Это странное отцовство, этот взгляд Алёнки при каждом его появлении — как на незнакомого…
— … Парижские соглашения, — говорил лектор, и голос у него был сейчас дружески-укоризненный, словно он напоминал о том, что его слушатели непростительно легко готовы позабыть, — восстановление мира во Вьетнаме!
Старички впереди закивали, и Григорьев невольно кивнул, и даже у Любы Шестопаловой чуть шевельнулась медная грива, обозначая легкий наклон головы. Да, нескончаемая война, с которой выросло их поколение, иссякла. Еще идут бои на Юге и в Камбодже, но Северный Вьетнам после страшной спазмы прошлогодних «рождественских» бомбардировок американцы больше не трогают. Устали. Весь мир устал. Вот как теперь кончаются войны: не победой, не поражением — усталостью.
— …Наш бывший друг, король Мухаммед Захир Шах… — лектора, видно, смешило это выражение, и он повторил: — бывший лучший друг. Отрекся, бедняга, от престола. Сам признал, что весь афганский народ — за республиканский режим. Так что, ветры обновления…
Да, в Афганистане что-то вроде революции. Ну и бог с ним, с Афганистаном, что с королем, что без короля. Кому это интересно?
— …Тревога всего мира. Тревога и надежда всех прогрессивных сил на планете! — лектор покачал круглой головой. При его короткой шее и толстых плечах это выглядело так, словно колобок с глазами-изюминами провернулся в ямке. О чем это он? А-а, понятно, о Чили: — Провокаторы и саботажники нагнетают напряженность! Забастовки, взрывы на дорогах! Срывают перевозки, стараются вызвать голод и панику…
Да, Сальвадору Альенде тяжко приходится. Удержатся ли демократы? Вон, за спиной лектора, на карте мира это самое Чили. Другого и государства нет с такой нелепой территорией — узенькая желтая полоска, словно кайма по краешку южноамериканского материка.
Правильно: чтобы не засыпать, надо смотреть на карту! Что может быть интересней карты? Но в теплую глубину затягивало неодолимо. Захлестывал поток. Карта растрескивалась. Желтые, светло-коричневые, зеленые, красноватые страны, голубые пятна океанов и морей, белые полярные шапки, точно цветные осколки в калейдоскопе, начинали пересыпаться под нарастающую тягучую мелодию.
Какая же мелодия была у 1973 года? Вначале — эта, из «Семнадцати мгновений весны». Сериал вечер за вечером смотрели взахлеб, хоть многое смешило сразу. И безукоризненная элегантность Штирлица-Тихонова среди бомбежек и гестаповских ужасов. И Юрий Визбор в роли Бормана, безуспешно пытающийся напустить на свою добродушную физиономию нацистскую мрачность. И бесстрашная радистка, прячущаяся от преследователей с двумя грудными младенцами на руках (хоть бы один заплакал!). А схлынул с экранов сериал, и в первый момент, кажется, задержались в воздухе только деловитое присловье Копеляна «информация к размышлению», да хлесткое, как оплеуха, словцо «партайгеноссе», да эта прошедшая за кадром песня, ее пронзительный мотив: «Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня…»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

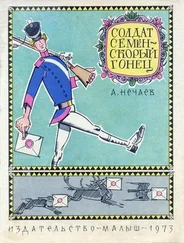



![К. Миллс - Зимний мир [ Зимний мир. Книга Брандеры. Книга Жанны]](/books/70354/k-mills-zimnij-mir-zimnij-mir-kniga-brandery-thumb.webp)