— Янкеля Тарасова.
Замолчал я, затих. Коротышка же со знанием дела, чертя пальцем на стене, рассказал, как грабят поезда, налетывают из-под лесу. Больше всего он пугал какой-то Самообороной, которая припархивала, как железная саранча, и крушила безжалостно. Вообще без разговоров — лишь хэкала как-то по-своему да шмекала.
Время от времени с откосов, из ближайших лесопосадок в поезд швыряли камни. Скидывали глыбы, чуть ли не жернова.
— Люди Степы Мюнхенского балуют, — говорил коротышка, осторожно выглядывая. — Камнями — это их метод, их манера. Лесные мельники.
Поигрывая блестящей зажигалкой в виде пистолета, он пожал плечами:
— Что за атавистическое стремление — сбиваться в гурты, разбойничать отарой…
Он решительно передернул затвор зажигалки и упер ее мне в брюхо. Теперь только я осознал, что это, пожалуй, не зажигалка. A-а, трясця твоего песца!.. Что же мне еще надо, чтобы начать уже разбираться — голову дверью тамбура защемить?
Молча полез я за самым последним мешочком и попытался всучить налетчику. Коротышку передернуло наподобие затвора:
— Я, милостивый государь, не половой! Извольте не забываться! Я сам все возьму… Мы, индивидуалисты-синдикалисты, действуем всегда в одиночку, — говорил страшный карла, снимая с меня тулуп и бережно его сворачивая. — Но тащим все сокровища в коммунию, в дуван, потому как…
Он не договорил и, приоткрыв рот, уставился на запертую дверь вагона. Ручка на ней потихоньку поворачивалась. Коротышка замер. Дверь толчком открылась, и на ходу поезда с подножки в тамбур один за другим стали запрыгивать люди. Я не успел особо их рассмотреть, они сразу же бесшумно проскальзывали вглубь вагона. Какие-то блестящие латы, береты, сдвинутые на ухо, загорелые сияющие лица, величавая осанка.
— Самооборона! — взвизгнул коротышка.
Влезший последним статный красавец в прекрасной броне и сползающих очках, без лишних слов легко взял коротышку в охапку, хорошо, видимо, зная, что это за птица, с трудом оторвал от моего тулупа, поднес к двери и вытряхнул под откос — только сдавленный крик донесся. Тулупчик славный обороныч, еще раз на всякий случай встряхнув, отдал мне.
— Ми ата? Кама зман ата по? — спросил он ласково и ободряюще похлопал меня по плечу. — Леат-леат. Ийе тов! Аколь беседер.
Где-то когда-то я слышал эти приятные уютные звуки, давно, очень-очень давно и не здесь.
В тамбур заглянул один из чумаков, занявших мое купе, ухмыляясь, поманил меня финарем:
— Пошли, абраша, проиграл я тебя.
Самооборонман стоял сливаясь со стеной, так что его не было видно, и когда чумак угрожающе подался вперед, немедленно страшно ударил его по переносице ногой в тяжелом шипастом ботинке. Потом открыл дверь наружу — ворвался ветер, пыль — и столкнул ногой дохлятину вниз. Захлопнув дверь, он посмотрел на меня, скорчившегося на чемодане в позе «была у мя избенка лубяная», видимо, быстро все понял, мгновенно оценил и спросил только:
— Эйфо?
Я робко показал в направлении утерянного купе. Грозно процедив: «Ахшав анахну…», оборонсон ринулся разбираться. Я сидел и ждал. По вагону разносились звуки как бы лопнувшей струны, летело там все, швырялось, лупилось. Потом затихло. Потом ходили, хрустя, по битому. Потом волокли что-то, утаскивали. Проводницы пылесосили дорожку в коридоре, пришли выбрасывать окурки, подметать тамбур, прогнали меня в купе, ворча: «Раскурился! Не продохнуть!»
И вселился я обратно. Хорошо-то как, тихо. Полка моя наверху осталась, столик у окна уцелел. Сел, смотрю в окошко, зевнул даже сладко.
Постепенно пейсы на людях за окном становились все длиннее, а полы лапсердаков просто волочились по земле — это уже был еще не Запад, но все же… Из сулей, сидя при дороге, пили много реже. Появился кипяток на станциях! Конные разъезды сопровождали нас, гарцуя вдоль насыпи на сытых битюгах, окруженные кривоногими свинорылыми псами.
— Собачки у них специально натасканные, — объясняли в соседнем купе. — Чуют нацию. Тю, мол, еврейко! Ну, которые Животрепещущие Души — выходи! Выведут в поле, на простор — и давай травить. Чистый Веспасиан!
Ох, вот и Упс — конечная станция из трех букв. Упавший пограничный забор, заросший бурьяном. Как мне и описывали — покосившаяся мазанка таможенки, старая вишня перед ней, цыплята в пыли. Очередной конец света. Опять рутина, тягомотина эта — проверка вагонов, тыканье штыком в багаж, выявление беглых.
Дверь отъехала в сторону, и ко мне в купе впорхнула солохая молодайка в бархатной юбочке и белой прозрачной рубашке с погончиками. На кармашке у нее было вышито блакитное сердечко, а под ним имечко — «Христина Кишкорез».
Читать дальше
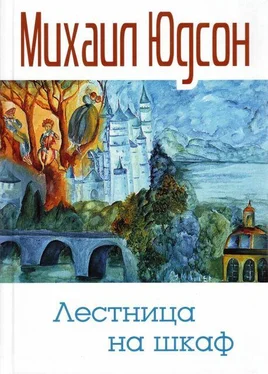



![Майкл Муркок - Кочевники времени [Роман в трех частях]](/books/395194/majkl-murkok-kochevniki-vremeni-roman-v-treh-chastya-thumb.webp)





