Общественным же транспортом я как-то не пользовался.
Только, знаете, захватишь место, усядешься, прикорнешь мирно в уголке, подпрыгивая на сиденье на ухабах, как раздается над тобой ветеранское звяканье медалей и хриплое старческое сипенье: «Встать, ублюдок! Меня четыре раза сбивали, я дотягивал до своих!» И получаешь клюкой, клюкой по загривку. Каково!.. А ведь для нас, беляевских, особенно из первых домов от метро, честь — это все! Уж лучше потихоньку, своим ходом.
Я обогнул дворовую церквушку Николы-островитянина, протиснулся в щель, образованную выломанным сгоряча православными колом, и выбрался на улицу.
По обеим сторонам Миклухо-Маклаянной тянулись почерневшие от времени и снега сборно-щитовые многоэтажки. Я бормотнул обычное: «Дома надменных разорит Господь». Да-а, как же, им хоть кол на голове теши!..
На балконах блестели спертой где-то пленкой теплицы с вызревающими клубнями, курились с плоских крыш дымки кострищ — песцы там ходили на выпасе. Взревывая, с разбойным свистом, проносились явно краденые ярко-красные снегоходы с мешками поживы, поднимая снежные буруны. Проскрежетал угнанный откуда-то гусеничный тягач, тащивший на тросе связку свежесвистнутых пустых металлических бочек, они жизнеутверждающе громыхали.
Там, где улица родная спускалась к распадку, я сел на ранец и скатился по обледенелому склону, радостно вереща, въехав в результате в сугроб. Выбравшись и отряхнувшись, я снова навьючил ранец, перебросил за спину свое автоматическое ружьишко, чищенное кирпичом, свернул на утоптанную Тверскую и побрел вверх, преодолевая сопротивление ветра. Мостовая становилась булыжной, усыпанной стреляными гильзами, я спотыкался. Навстречу плелись люди с вещмешками, похожие на согбенные каменные фигуры «Очереди в печь» на Низкопоклонной горе. Однако, в отличие от истуканов, люди оживленно бранились в отца, сына и духа, а из карманов ватников у многих торчали бутылки с горючей смесью (насобачились ее пить) — богомольцы тащились от Иверской, с заутреннего камлания. Студено. Холодрыга. Среброснежная зима — запирайте етажи! Вдоль Тверской скакал бухой в сивку хорунжий в белом бешмете, на всем скаку зубами поднимая примерзшие к земле окурки — навострился, стервец! Вон красноносая старушка-синюшка, наша суровая леди Винтер, дыша духами и сырцом, тащит музейный пулемет на колесиках — веселее, бабка! Нажравшийся мужик в кроличьем треухе, истово прижав молоток к груди, бежит, пошатываясь, куда-то (за хоругвями?..) — анклойф, кролик! У подножья памятника Баскаку Ослобонителю, на приступочке, прямо под бронзовыми копытами, присел заросший небритый лешак в бекеше с трехлитровой банкой медовухи, прихлебывает и читает упоенно, расстелив на коленях, длинную ленту электрокардиограммы — чудь, дичь, быль, поросшая быльем!
Было заметно, что город постепенно оправляется опосля прошлогоднего потепления, таянья снегов (по-народному — абляции) и затопления Москвы, когда между домами плавали в долбленых бревнах. Хорошеет, жирует. На хлебозаготовках за осьмушками особо не давились.
Я миновал булошную отца Александра, где за светящимися, заложенными мешками с ситным, витринами приказчики лениво играли в свайку. Громыхнуло где-то негромко. Еврей-меняла высунулся из своей лавочки при храме и спросил: «Уже?»
Протопало отделение защитников Родного Очага — в мешковатых шершавых шинелях до пят, размахивая рукавами, шаркая стоптанными сапогами. Отделение гнал кривоногий сержант со злобным дегенеративным лицом, хромовые сапоги у него были смяты гармошкой, с какими-то висюльками на голенищах, каблуки подкованные, обточенные. Ох, кошмар, кошмар… Пузыри земли русской!
Я перелез через узорную чугунную решетку и пересек редкий кедрач Тверского урмана. Справа, окруженный поваленными фонарными столбами и обрывками цепей, нелепо торчал засыпанный снегом опустевший постамент («Вознесся!..», как Он, главою непокорный, сам и предупреждал). На углу, на месте взятой народом и разрушенной Проклятой Котлетной, скрипело под ветром и раскачивалось хлипкое сооружение — Памятник Третьему — разлапистая шестиконечная звезда, сварганенная, во-первых, из трухлявых бревен использованных православных крестов, а во-вторых — из сломанных серповидных крышек от мусорных баков.
Пока я бил поклоны, скакал вокруг Звезды, хохотал, вспомнив (вдруг!) возвращение Ершалаима (всесилен!..), тягуче пел: «По-оле, русское по-оле, я твой тонкий шибболет», они вышли из-за прошлогоднего высокого сугроба и стали вразвалочку приближаться. Были они кряжистые, бородатые, в лохматых меховых шапках.
Читать дальше
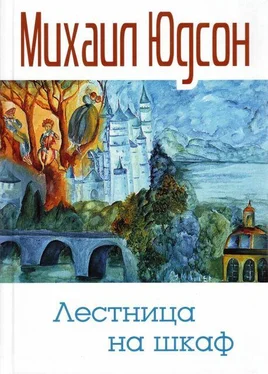



![Майкл Муркок - Кочевники времени [Роман в трех частях]](/books/395194/majkl-murkok-kochevniki-vremeni-roman-v-treh-chastya-thumb.webp)





