Шапочка недовольно приоткрыла дверь на цепочке.
— Ах, это вы! — улыбнулась она, поспешно сбрасывая цепочку и распахивая дверь. — А я, вы знаете, думала, опять эти немцы-колонисты… Лезут целыми хуторами, в каких-то волчьих овчинах…
Она была в летнике цвета травы с полевыми погонами. Одна-одинешенька. Старой грымзы-почтальонши не было — то ли черные метки по квартирам разносила, то ли ушла сидеть с товарками на обледеневшей лавке возле подъезда, грызть железными зубами подсолнухи и плевать вслед всякому проходящему.
— Только, извините, не прибрано у меня, — сказала Шапочка. — Садитесь в уголке, обождите.
Помещение было заставлено ящиками и коробками с пошлиной. Я с трудом пробрался в угол. Шапочка принесла ведро талого снега, тряпку и, засучив подол, принялась возбуждающе шваркать по полу, распихивая узлы и корзины. Я, подобрав ноги, сидел на лавке и, как учили схимники, разгорался. Но как-то вяло, тлеюще. Меланхолично слишком. Потом, хорошенько подумавши, я нежно хлопнул ее по чудесному оттопыренному месту. Никакой реакции! Я хлопнул еще раз — уже сильней… (Всю трепетность моего отношения к прекрасному полу вы поймете, ежели я скажу, что любимым моим литературным персонажем является гоголевский штабс-капитан Шамшарев.) Шапочка, не отвлекаясь, как будто так и надо, старательно терла пол. Тогда я аккуратно подтолкнул ее к еловому столу (к себе задом, к лесу передом), невыжатую тряпку мягко отобрал и зашвырнул за печку, ведро, расплескивая, отпихнул ногой.
«И поворотил он к ней и сказал: войду я к тебе. Ибо был весьма похотлив» (Бытие-Житие, 38:6-16)
И пока я, сопя, шуршаще задирал, шелковисто стаскивал, разгибал зубами застежку, старательно нащупывал, хлопотливо впихивал — она сносила все это кротко и терпеливо. С тихим снежным спокойствием. Когда же я, запыхтев, приступил к фрикционным движениям, милая овирка принялась внимательно рассматривать лежащие на столе мои бумаги, деловито подчеркивая кое-где карандашиком.
Я тыкался носом в ее загорелую бархатную спинку с нежными розовыми прыщиками, на которой была вытатуирована церква с тремя куполами и синела наколка: «У Палм-Ки Он получил, что Ему причиталось».
…оголодав и вожделея, Серый приплывет, по-темному алея, и ухватит за бачок (малограмотные темные Алеи!), и всучит, чудище, цветочек — милая, милая Шапочка, именно она (пусть сварливо возникают из пены) и есть влекомая коньками Венера (целую ботик!), как ее писал Боттичелли, в морях натрудивший сие полотно, — Марена, зимняя богиня, боярышня Морозова взятого городка, ночная дочь иных овиров, ледяная Снежная Королева, и я, мальчик слева, успел прицепиться к ее саням, запряженным грифонами… Результ… самые утешит…
— Побыстрее бы, оформить бы, — страстно шептал я, слабо пошевеливая фал, стараясь замедлить, продлить сладостный процесс заверте. — Может, можно?
Шапочка, застонав, выпрямилась и, не поворачиваясь, впилась ногтями мне в рогожу штанов (на ногу я ей, что ли, невзначай наступил?), крепче прижимая к себе. В стонах этих явственно слышалось: «Не горюй, евреюшка, не печалуйся, ступай себе с Богом, утро вечера мудренее, я тут приму меры, завтра явитесь, зайдете без очереди, все будет готово, отпущу тебя на волю…»
— Коробчонка сластей и румян с меня, — пообещал я.
— Лучше — киш мир ин тухес! — застенчиво попросила она.
Что тут оставалось делать? Конечно же, с удовольствием чмокнул на прощанье!
Доплелся к себе. Взбежал. Уф-ф… Устал я нынче, намаялся, нагорбатился. И был вечер, и было утро, день один заключен был порцией холодной верблюжатины с тушеной колючкой.
22 апреля, вторник
Но для всякого правоверного нынче, конечно, субботник. Шаббатник, уточнил бы Бланк («…а ваш дед, сэр, старый Исаак Бланк…»). Так что — за работу, товарищи! — как любил приговаривать Бланк-внук, в соответствии с жуткими мифами пожирая баранов в пещере — в Шуше, у подножья Алтая.
Проснулся я оттого, что по лестнице в подъезде ходили славить, при этом носили ритуальное бревно, — двое держатся за талит, а третий размеренно ударяет комлем в двери.
Хорошее утро. Эволюционное вполне. Станем прямостоящи! Встал и иду. Сошел в Овир. Обшарпанные стены со следами соскобленных инструкций, полустертые надписи, позднейшие напластования. На дерматине двери уже вырезано «Отпусти народ!», и вата торчит из обивки. Хотел я было, как наставляла Шапочка, зайти без очереди, готовый уже к крикам в спину «Самый умный что ль? Самый избранный?», но сразу понял, что без очереди не получится, потому что никакой очереди сегодня и нет (ну, настроение с утра не то!), все сгрудились ватагой. Хмурые опухшие морды, нетерпеливо бурчат, клокочут. Того и гляди начнут заместо ушанок напяливать, расправив ленточки, бескозырки и закричат: «Гой да, робята, ломай ворота!»
Читать дальше
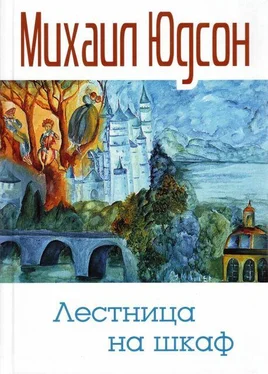



![Майкл Муркок - Кочевники времени [Роман в трех частях]](/books/395194/majkl-murkok-kochevniki-vremeni-roman-v-treh-chastya-thumb.webp)





