— Вот и послушаем. А то вся Москва от них, пришельцев чужеродных, желтой травой заросла, уже из-под снега лезет…
— Зато на огородах хоть шаром покати — одни муаровые гряды!
И проч., и проч.
Илья задумчиво водил пальцем по стеклу, протаивал дырочку. «Все эти разговоры — инерционные, вслед, — думал он вяло. — Вторение задов. Исконно местное маханье на лестнице. Никого уже нет, и трава таки проросла на пороге. А на траве дрова, на носу очки, а в душе — зима. Спина уезжающего арамея излучает сиянье… Я — один, яхвезаветный, последний из изь, размазня-шлимазл, и моя тень так крепко примерзла к этой земле, что я никак не могу ее оторвать. Голота галутная, сухая листва под здешним снегом… И я никогда не дозвонюсь до Люды».
«Яникогданедозвонюсьдолюды, зелен дол юды, — пробормотал он, — и помер бедный рабуног». И грустно вспомнил, что вот у них в группе Маша Кац — желтобилетница и отличница — постоянно старается на лекциях сесть рядом с ним, подсовывает свои аккуратные конспекты, приглашает в гости по поводам и без — тут разночтений быть не может!..
Маша Кац: папа имел свое дело — покупал селедку, счищал ржавчину, резал на кусочки и продавал дороже; мама вела дом. Милые усталые интеллигентные люди, всегда такие благожелательные. Они потчевали его чтивом, подсовывали альбомы лубочной живописи, глиняные свистульки, отлакированные шкатулки, навязывали даже расписные подносы («О, нет!..»), и приглашали обязательно заходить. Он набивал всем этим рюкзак, гордый самец-поскребыш, утрамбовывал и, сопя, волочил прочь.
— Уж, пожалуйста, и подносик вместе возьмите, — подмигивая книжничал папа, провожая в прихожей и помогая навьючить рюкзачище.
А мама, тихо улыбаясь, собирала со стола в гостиной хрусталь и серебро, шепотом, в стихах, пересчитывая вилки. Он им нравился, это же всегда чувствуется.
У Люды мать пахала звеньевой, а отец вкалывал углежогом. Он регулярно поддавал, но, как равнодушно говорила Люда, не колобродил, сразу приходил домой, в панельный их курной сруб, ложился в сенях под вешалку и засыпал. Илье доводилось осторожно перешагивать через него и видеть откинутую в сторону руку, державшую закопченные очки с дужкой, прикрученной веревочкой.
Конечно, это все не главное, все это зола, пепел. Но, согласитесь, все же окружение формирует… А как оно, въевшись, влияет!
У Маши родители готовились к отъезду. Давно уже готовились. Перекати-поле еще те! Кунктаторы… Не спеша собирались, педантично и аккуратно — ну там, два ножа, сухари, компас («Русь обрастает мхом с северной стороны…»), увеличительное стекло для добывания огня. Так, может быть, как бы это выразиться, — женихов берут? Тук-тук, пустите меня в теремок, пока Телемак не закрыл на замок. Да-а, Маша Кац. Фельдкуратская дочка. А что? Скорей всего, нивроко, судьба не есть жестко закрепленная система и возможность слабо трепыхаться присутствует. Сказочка про бабушку и зеро: «Садись поближе к печке, Малыш!» И вообще — из-за леса, из-за гор варяг Серен утверждал: «Как бы ты ни поступил — все равно пожалеешь». Или — или: однофигственно!
Печальными нежными голосами пели девочки в вечерней электричке — как большой песец порвал сети, опрокинул баркас и никто не вернулся назад, не спустился с холмов… И здесь нечего больше ловить…
Электричка мерно катилась. За окном, опережая, бежала упряжка, звеня бубенцами в морозном воздухе. Илья поскреб стекло левым мизинцем, скрюченным навечно. Это в бытность его бедным студентом старушка одна, Аленушка, укусила — чтоб пил по-человечески, по-русски, а не цедил, морщась, тварь, яд рожащая…
Илья смотрел в проталину на затуманенном стекле.
Лес кончился. Начиналась городская свалка, места богатейшие, но осваиваемые варварски и поверхностно. Какие-то фигуры в ватных стеганках ковырялись в мерзлой земле, искали в культурном слое что попадется. Вдоль путей брели в кольчужках лыжники с заиндевелыми хоругвями, возвращаясь с крестного хода. Проехали Дачные Пустоши, Ближнее Запустение, замелькал городской частокол. Пошел уже собственно город — буераки в несъедобном бурьяне, косогоры в снегу — град мал, древян, занесен по самые крыши и наречен Москва. Виднелись полуразрушенные зубчатые стены, обвалившиеся башни — там, где был сход снежных лавин. Так все и брошено было с тех пор: чего укреплять-то — по Книге — на погибель?.. Вдали, за городскими чертогами, как яишня с луком на старинных росписях, золотились купола Царь-церкви (по слухам — тож у них на посылках).
Читать дальше
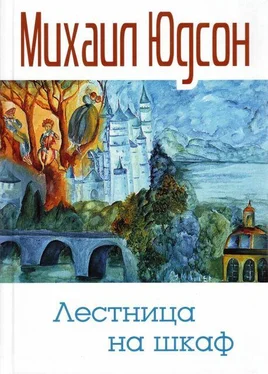



![Майкл Муркок - Кочевники времени [Роман в трех частях]](/books/395194/majkl-murkok-kochevniki-vremeni-roman-v-treh-chastya-thumb.webp)





