Хранитель стоял перед ним и протягивал мензуру разведенного, с верхом:
— Прошу, на прощанье. Отвальное вино. Чтоб звезды легли!
Иль поспешил собраться и утром уехал.
«Весна идет рогатая,
Играючи расходится.
Пора любви…»
(Ялла Бо, «Путь Зуз»)
1
Весенний ветерок с моря заливал что-то о несбыточном (не зря «нес» на праязыке значит — «чудо»), нес соленую чепуху о любвях и дружбах промеж; трепался за сладкое свято место — тудыть стоит продраться, отстояв; улюлюкал про любямки, любшишки, не забыв и прочих свойственников страсти. В нисане, в полуденный час, седьмого дважды дня — ну, центр месяца по стихам, по словам, по буквам — в пятницу, в сочельник Пасхи (ах, день Изхода, ходики куку, склянки дзынь!), где-то в половине тринадцатого Ил стоял в молитвенном зале Дома Собраний в толпе себе подобных — Получающих — и произносил прочитанное.
Это был столичный элитарный Дом Собраний на приморском бульваре — «Маленький домик-на-набережной». Белый купол крыши, мозаичные красно-желтые стены, узорно кованые двери с изображением шестикрылых семисвечников. В глубине — «арон», укромный шкаф для святых свитков. Нарочито простые деревянные скамьи. Высокие, узкие, цветными стеклышками устланные витражные окна с изображением Колен распахнуты настежь — и ветришко с моря, свежачок, заглядывал в них, трубил, надув щеки, в рог (строго отпиленный у араза безмозглого, который в темном лабиринте подсознания таится, под ветошью, покорно вылезая ненароком, в Доме, когда читается Завет), трепал листы Книги на столах, шевелил бахрому бархатных скатертей, дергал кисточки молитвенных покрывал на плечах, истинно вопрошал: «А что вы тут делаете, добрые люди в ермолке?»
Ил молился без запинки, отринув земное, забыв быт. На «биме» — возвышении посреди зала — торчал очередной Бим или Бом, вызванный к Книге, и бойко докладывал ей, родимой, свои комментарии, взывал, раскачиваясь. Эль-ва-вой! Вокруг нестройно вторили, да так, что за диаконом, однако, впору бежать, бемоль за диез заходит — выручай, Адонай, привечай аналой! Шма, мало-мало.
Вся Книга-коэнига, Коврига Единого, пятая проза моисеева (о, Шем — в складках его хитона притаился Моше, тоже где-то Четырехбуквенный, хлеборезник ветхих Пяти Хлебов для всех разом), Буханка Божья разделялась-разламывалась, как дано-известно — сие аксиома — на пять ломтей-краюх, томов-подкнижий. Сегодня ликро-читали том «Во икра», шмотать-мотали недельную главу о том, как некий праведник, у которого сдохла и стухла курица, не стал ее выбрасывать, а, недолго думая, отдал бедным, те сварили, съели, отравились и попали в больничку, праведник отправился их навестить, а назавтра бедные померли, и праведник сходил на кладбище, а потом на пути с поминок с блинами в доме бедных был одарен озареньем — при помощи одной лишь тухлой птицы он выполнил сразу четыре заповеди — помог бедным, навестил больных, явился на похороны и утешил скорбящих (коим не досталось курицы), как и велит пархидаизм. И исходил несчетно!
Ил, напряженно впихивая себя в тиски текста, пытался нащупать лакунные кратеры, ущучить торчащие вершины, вникнуть в глупь Переучения… Раскусить ахинею орехово! Думы о пироге. Отрешенно шурша (ришь, рушь), струятся избранные мысли, бьются в мозговые перегородки, капают — хап, хап… Ничо, ничо, чудилось оптимистично, Книга вечна, позолота сотрется, свиная кожа останется…
Торжественный хор херувимски звенел, перекликался, ой-ой-ойкал под сводами Дома: «Ви… и… мы…» Прихотливые меховые, глянцево отливающие круглые шапки из чернобурого песца, черные высокие шляпы, длиннополые сюртуки — вот так Домик. Ермолки на головах шевелятся разные — шелковые, вязаные. Пейсы, носы, глазищи горящие. Черным-черно в зрачках от лапсердачных пар и живых шляп. Кипеш! Кудель курчавая, истошновойная. Штраймлы, штрудели, штрадальцы.
Раскачиваются самоуглубленно, с разными амплитудами, аж можно вывести зависимость. Казалось бы, набито вплотную, как в бочке, не протолкнуться, но когда молящемуся срочно надо поклониться — место всегда находится. Премудрые объясняют — стоящий во весь рост человек заполняет собой мир, сверхчеловечище глупое, а склонившись перед Всевышним — занимает куда меньше места. Учитесь, селедки!
Под ногами скользко, клейко — сандалии липли, Ил ощущал — уж так положено, заповедано, будто в Прахраме у древних пархов — потроха повсюду, перья птичьи, жижа жертвенная натекла. Тогда же, в старину, можно было встретить и останки специально откормленного (как вкусно описывал апион-кретинос, эрудит, гля, из семейства демокритовых) и авраамически раскромсанного на четыре куска чужеземца (эвона, несть эллина!) — валялись себе кишки вольноотпущенно во вдохновенном беспорядке. Нынче — не то, времени на традиции нет, все наспех, упадок нравов. А может, в чулан убрали, чтоб не пронюхали.
Читать дальше
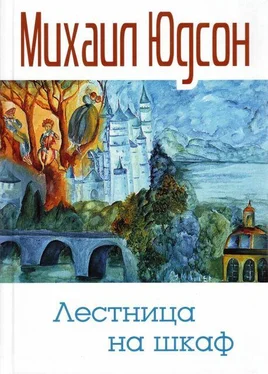



![Майкл Муркок - Кочевники времени [Роман в трех частях]](/books/395194/majkl-murkok-kochevniki-vremeni-roman-v-treh-chastya-thumb.webp)





