На горизонте — белые чашки кораблей, как убежавший, обезумев, сервиз — о, гон посудин по весне, чокнутое чаепитье! А над морем — нависшая голубизна, свод пространства, вровень с нижним небом. И в открытом небе — пестрые коробчатые змеи, воздушные огромные шары, летающие гондолы с парочками — оттуда высовывались телом, счастливо махали конечностями, безгоршково швыряли цветы, разбрасывали что-то нирванное, полупрозрачное… «Предохранитель полетел», вспомнил Ил известную лубочную скабрезную гравюру бабушки Пу. Как бы резвяся и играя, да-с. А далее махолеты витают — люди на крыльях парят, аки Парки пролетающие, а не пархи гулящие! А уж совсем над всем этим буйно-веселым изобилием: плавно и трудолюбиво плывущий — по дуге Ра — струг Ярила с мешками шемеша.
Ил вздохнул — вот и утра как нет, кусища дня, припозднились в молитвах, обед скоро, рукой подать, до субботы осталось раз плюнуть. Вон уже первый субботний хворостосборщик с ликторским топориком на плече, опережая ленивых собратьев, проковылял по набережной меж плодоносных пальм. Ил глубоко вдохнул свежий соленый воздух — сладко пахнет, клиторно — эх, весна-красна, славно, жить хочется, писать, любить — и пошел вразвалочку вдоль моря.
Набережная была вымощена полупрозрачной плиткой, чуть подсвеченной вечерне изнутри голубовато — порой под ногами вроде и рыбка проплывала, мелькал колючий плавник, выпученный глаз, кончик щупальца с присоской. А иногда виднелась оскаленная морда араза-уборщика, вставшего на цыпочки и морлочьи глядящего тяжело на тебя снизу… Мда, шма, Адонай Элоев, доедай да пей!
Толпа приморская ритмично текла опричь — хохочущая, пританцовывающая, прищелкивающая, вприпрыжку — полуголая, ну, слегка белоодежная — одета в лето! — хищные облупленные носы, загорелые торсы, соблазнительные животики с вдетым в пупок колечком (вот что отличает нас от животных!), темные очки причудливых бабочковых форм — белозубье, шоколадокожье, веснушки — эх, весна в разгаре! Ах, Лазария, вечный белый город-герой — нон-стоп! Катались вокруг лихо на «геликах» — самокатах с солнечным моторчиком, проезжали на каком-то высоком колесе с рулем — стоя. Спускались к подножью волн, на бережок, таща изогнутые плавательные доски. Рисовали цветными лучами на воде, отливали скульптуры из песка. Перекидывались яркими пластиковыми тарелками, словно Создатели солнечным диском. Съезжали, визжа, с «морских горок». Жарили на мангалах шипящие, скворчащие мясорыбные плоды с душистыми приправами и дивным дымком — поедается все! Всячески старались душевно встретить расступление прихода Пасхи, светлого праздничка Изхода. Встречались и наряженные, как Ил, — в душный лапсердачок и черную шляпу, в пыльных сандалиях и с Книгой в обнимку — на таких не глазели, никому дела не было, пишись как знаешь (хорошей записи!), каждый строчит, как он хочет… И музыка, музыка в толпе — глухого возбудит, лун сон наяву — очки, серьги, часы, браслеты на ходу позванивали, завывали, как тритоны в раковины, клезмерили, прибамбахивали намагничено, издавали звуки — псалм-рок («Ах, хам, ах, шав, Шем ешь, а гешем — шиш!»), романсеро («Мне навеки обломилась вышка, лебеди над лагерем кружат…»), шамкающие хоры («Лазария моя златая, дорогое мое сребро!»), вдруг — Гендельсон, «Геттора», пронзительные скрипочки…
При этом сплошь и рядом по ушам — рефреном — шуршащее слово «финики». Финики, нарвать фиников, финьки, финикалии… Деньги, значит. Деньджонки (сами в руки плывут). С тех пор, как финикийцы изобрели их, а пархи ввели в оборот — ах! Соль сил. Абсолют. Вот народ-то… Мой! Птица Финик-с! На третий день, день-гимел… Выходной имел! Истовые товы. Без одежд, на пляжу — а все туда же — пустить финик в рост (хорошо, не смокву). Завет! Ну, Лазарь продаст…
Вдруг зачесалась приятно у Ила правая ладонь — звонят, получается. Он потер слегка большой и указательный палец — и на ладони возник, «проявился» экран юдофона — точнее, ладонь и стала этим экраном, нанонанесенным, напыленным на нее. На экране приплясывал, подмигивал, корчил рожи ненужный знакомец Уриэль — деляжка, противный мелкий ученый-пархеолог (раскопками он занимался в организме, какими-то бляшками да свитками в сосудах — да тырил в основном из статей коллег убогих) — удивительно наглый, надоедливый тов. Он, как обычно, паясничал, кривлялся, причмокивал, точно его араз укусил, шутовски кланялся:
— Ша-алло-ом, бьем челом! Эне бене тода раба! Здоровеньки, сновидец! Чего спишь на ходу? Толкуешь, разгадываешь? Весна, нафиг — май накфа мина иль нисан!
Читать дальше
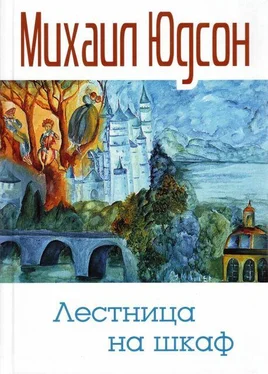



![Майкл Муркок - Кочевники времени [Роман в трех частях]](/books/395194/majkl-murkok-kochevniki-vremeni-roman-v-treh-chastya-thumb.webp)





