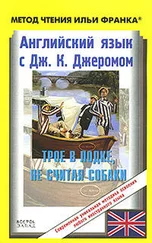Спорить мне не хотелось, прежде всего потому, что самому было интересно: с кем нам предстоит выйти на всесоюзный экран?
– Витьку берем? – спросил я на всякий случай.
Проклов был нашим самым близким другом. И хотя в отличие от сестры он не имел столь ярких артистических способностей, но он же был «наш Витюша». Для Саши Витя был не просто ближайшим другом. Если взять высокие примеры, Проклов занимал в жизни Зегаля место Фридриха Энгельса в жизни Карла Маркса, исключительно в финансовом смысле этой дружбы.
Следующей кандидатурой был, безусловно, Женя Любимов. В будущем Любимов стал большим начальником, он был главным архитектором Центрального округа столицы, что довольно странно, потому что в институте все относились к Любимову с большой нежностью, а из таких людей начальники не получаются. Зегаль умудрился найти в записных книжках Ильфа и Петрова фразу: «Наконец Какашкин поменял фамилию на Любимов», и когда ругался с Женькой, то всегда ее вспоминал. Сам Женя любил называть себя двойной фамилией Любимов-Пронькин (Пронькина – фамилия его мамы).
Как можно было не позвать в команду Любимова? Тяга к сценическому искусству в нем была так же сильна, как и горечь от невостребованности в этой области. Женя участвовал в любом мероприятии, позволяющем выйти на сцену. Пару лет в МАРХИ даже существовал самодеятельный театр. Мы с Зегалем учились тогда на втором курсе. Когда они разродились спектаклем, то от большого ума и творческого запала выбрали для дебюта пьесу Эжена Ионеско «Носорог». Самое большое впечатление эта абсурдистская пьеса произвела на преподавателя кафедры марксизма-ленинизма по прозвищу Дуче. Это позволило театру довольно быстро закончить свое существование, поскольку выяснилось, что парижский румын Ионеско что-то не то подписал, где-то не так выступил по поводу советского захвата Праги в 1968 году. Если можно так выразиться, по поводу Ионеско возбудилась не только наша, а всесоюзная кафедра марксизма-ленинизма, которую возглавлял похожий на столетнюю ящерицу член Политбюро ЦК КПСС Михаил Андреевич Суслов. Один только вид этого человека в футляре, передвигающегося по Москве на правительственном черном, похожем на комод «ЗиЛе» со скоростью сорок километров в час, ясно указывал, что с таким главным идеологом партия долго не проживет. Кстати, из дому Суслов выходил только в галошах. Где он умудрялся находить лужи на своем пути в лимузине с Рублево-Успенского шоссе до Кремля, одному богу известно. Может, «ЗиЛ» у него протекал?
Неплохо, конечно, переключиться с Любимова-Пронькина на члена Политбюро М. А. Суслова, но придется вернуться обратно.
Как мы могли не взять в команду Любимова, который в прошлом году на одном из институтских вечеров решил показать этюд, явно навеянный долгим сожительством с пьесой Ионеско. Даже микроскопического вопроса не возникало по поводу Любимова, несмотря на то, что в своем сюрреалистическом представлении он имел оглушительный провал! Даже в нашем очень левом и невероятно творчески интеллектуальном вузе. Народ жаждал танцев, а Женя медленно и вдумчиво раздевался, аккуратно вешая вещи на стул. Единственный, кто не сводил с «артиста» глаз, был уже упомянутый Дуче. По режиссерской задумке Любимов-Пронькин, не говоря ни одного слова, наконец остался в широких сатиновых солдатских трусах, которые частично закрывали его скелетоподобный торс…
Никогда не забуду мягкий зимний московский, какой-то предновогодний вечер, как его изображают в кино. Темно-синее небо, желтые фонари, опускаются, как парашюты, огромные снежинки, усталые москвичи торопятся домой. А у входа в уже описанный пивной бар, подходя по Столешникову, я вижу, стоят, обнявшись, в мокрых кроличьих ушанках преподаватели с кафедры рисунка Владилен Минченко и Алик Мокеев, а между ними – в котелке и белом кашне – Любимов. И эта троица проникновенно на весь перекресток Пушкинской (ныне Большой Дмитровки) и Столешникова переулка поет: «Парней так много холостых на улицах Саратова…» И что самое интересное, и эти трое, и их девичья песня прекрасно вписываются в зимний пейзаж тогда еще относительно спокойной Москвы…
Зимой Любимов-Пронькин ходил в черном пальто с бархатным воротником, с перекинутым через руку тростью-зонтом, в белом бесконечном шелковом кашне и – внимание! – настоящем черном котелке. Где он его достал – уму непостижимо!
Когда я недавно пришел к нему в гости, он вытащил из гардероба три дорогих итальянских кашемировых пальто, и все с черными бархатными воротниками. Женька сказал, что нашел армян-портных, которые подобную операцию проводят безболезненно, то есть дорогих вещей не портят. Из чего я сделал вывод, что у Любимова был до этого отрицательный опыт вшивания бархатного подворотничка. К нам, собратьям по команде КВН, но дилетантам сцены, Любимов относился снисходительно, причем сумел сохранить это чувство на все сорок лет.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу