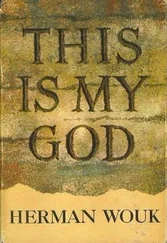Это была не очень убедительная линия защиты. Дело в том, что в тот момент Фейга была в толстой кожаной куртке, шерстяной юбке и кепочке под Ленина: это был достаточно непрезентабельный вид — вовсе не такой, чтобы возбудить у нью-йоркского полисмена похотливые чувства. Фейга просидела часов шесть в тюрьме с группой мелких воровок и проституток, прежде чем папа дозвонился до муниципального советника Блюма и добился ее освобождения. Не обошлось и без небольшой мзды полисмену, чтобы убедить его не возбуждать уголовного дела; мзду, конечно, заплатил папа. Фейга несколько часов провела «на дне» и была благодарна папе за то, что он ее оттуда вызволил; и ее советская закваска с того дня начала понемногу испаряться. Со временем, как вы еще увидите, Фейга очень переменилась.
Но, пока суд да дело, пришла беда — отворяй ворота. Больше всего пострадала моя сестра Ли. Ей раньше обещали, что она сможет пойти учиться в Корнеллский университет, но вот она уже кончала школу, а денег на университет не было. Поэтому Ли четыре года ездила на метро в колледж Хантера. До сих пор она, едва вспомнит об этом, как вся закипает. Когда она кончила колледж, родители, как бы в возмещение, дали ей деньги, чтобы на год поехать за границу: тогда-то она и познакомилась в Палестине с Моше Левом. Но Л и до сих пор никак не может забыть, что Исроэлке в конце концов поступил-таки в Колумбийский университет, тогда как она окончила всего-навсего колледж Хантера. По какой-то необъяснимой причине она считает, что тут был виноват я, а не тетя Фейга. Она напрочь забыла — это она-то, с ее слоновьей памятью — про историю с «хозяином Гудкиндом».
А я не забыл, потому что из-за этой истории я попал в иешиву.
Воистину, сбылась мечта «Зейде»! Вот перед вами иешива — то есть бейт-мидраш, — и в ней восседает наш герой, среди шестидесяти или семидесяти других таких же отроков в ермолках; и они в шуме и в гуле читают и обсуждают цитаты из Талмуда. Да, Исроэлке именно здесь; он умело тычет в воздух большим — как говорят на идише, «толстым» — пальцем, дабы подкрепить этим жестом свою самобытную мысль.
Как это случилось? Видите ли, мой класс кончил школу имени Таунсенда Гарриса в феврале, так что до осени всем нам было, в сущности, нечего делать. Некоторые за это время собирались поддомкратить уже пройденные предметы на специальных курсах, чтобы получше сдать стандартные общештатные экзамены — так называемые «экзамены Риджентса». Для тех, кто лучше всего сдавал эти экзамены, штат Нью-Йорк выделял стипендии размером в сто долларов в год. Мне, так же как и Ли, уже, казалось, было суждено поступать в бесплатные городские колледжи; но получение стодолларовой стипендии могло означать, что у меня снова появлялись шансы на Колумбийский университет.
Ну так вот, когда «Зейде» об этом прослышал, он поспрошал, кого можно, и узнал, что в Нью-Йорке появилось некое еврейское духовное училище под названием «Иешива-университет». Сейчас это — крупное и очень солидное высшее учебное заведение, но сорок лет назад оно помещалось всего в одном здании и еще только пыталось встать на ноги. При нем была подготовительная школа, громко именовавшаяся Талмудической академией, и она готовила вчерашних школьников к «экзаменам Риджентса».
— Так почему бы, — спросил «Зейде», — почему бы Исроэлке не мог подготовиться к этим экзаменам именно там; а заодно бы он еще и подучил немного Талмуд?
Он, конечно, надеялся, что я после этого продолжу свои талмудические занятия и в конце концов стану раввином: и, стало быть, из полыхающего костра «греховной Америки» будет вынута лишняя головня. Папа был за, он сказал, что пара лишних месяцев усиленного изучения Талмуда мне не повредят. Я, не долго думая, согласился.
О, как мало я понимал, на что я себя обрекаю! Десять часов уроков английского и иврита, плюс два часа занятий с дедом, плюс четыре часа на трамвае — таково было мое ежедневное расписание. Да я бы вполне достаточно мог освоить Талмуд, занимаясь с одним только «Зейде». Утром я из Пелэма ехал на трамвае к нему, потом на другом трамвае я ехал через весь город в иешиву. Иной раз папа заезжал вместе со мной к «Зейде», чтобы посмотреть, как я грызу гранит талмудической науки. О, как озарялось его усталое лицо, когда он слушал наши с дедом дискуссии; он никогда не вмешивался, только слушал. А у меня, должен вам сказать, случались взрывы бунтарского настроения, когда я хотел сбросить с себя это бремя. Однажды я недвусмысленно заявил папе, что я до смерти устал от этих талмудических умствований по поводу законов двухтысячелетней давности.
Читать дальше