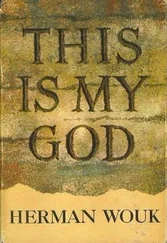Наконец мама нарушила молчание:
— Итак, ты решила затеять забастовку, так, Фейга? И это после того, как Алекс взял тебя на работу — кстати, только по моей просьбе. Что с тобой стряслось?
— Я всего лишь одна из работниц, — сказала Фейга. — Рабочий класс пробуждается. Это исторически неизбежный процесс.
— Но это ты все начала? Так или не так?
— Что за чушь? Как я, одна, могу начать международное движение? Передай мне, пожалуйста, кетчуп.
— Нет! — решительно сказала мама, зажав бутылочку с кетчупом в руке.
Фейга явно удивилась и была чуть-чуть озадачена:
— Что?
Мама продекламировала:
Хозяин Гудкинд — мироед,
Хозяин Гудкинд — живоглот:
Он — виновник наших бед,
Он кровь рабочих пьет.
Это ты написала?
— Это голос рабочего класса, — сказала Фейга. — А я только выразила его чувства.
— И ты имеешь наглость тут сидеть, — сказала мама с убийственным сарказмом, — и есть пищу мироеда Гудкинда?
Фейга покачала головой и очень спокойно сказала:
— А почему бы и нет? Лично против него я ничего не имею.
Этот ответ так ошеломил маму, что она механически передала Фейге кетчуп; та густо полила им курицу и макароны и продолжала есть.
Через некоторое время папа сказал тоном Иова, сидящего на пепелище:
— Фейга, ты же проработала в прачечной уже шесть месяцев. Разве я такой плохой хозяин? Разве я живоглот? Разве я пью кровь рабочих?
На круглом славянском лице тети Фейги мелькнуло что-то похожее на смущение. А может быть, это было чувство гордости за свое авторство?
— Алекс, это пропаганда и агитация, предназначенная для народных масс. Пропаганда и агитация должна быть простой и яркой.
Разрешите мне изложить вкратце, чем закончилась эта тягостная сцена. Мама рассказала Фейге про калифорнийца и объяснила, почему нужно срочно прекратить забастовку. Фейга ответила, что папино затруднительное положение — это всего лишь одна из мелких битв классовой борьбы. «Голубую мечту» закрутило в водовороте истории. Нельзя изжарить яичницу, не разбив яиц (именно от тети Фейги я впервые в жизни услышал эту фразу). И так далее. Ни до чего договориться они не могли, и они орали все громче и громче — и все по-английски. «Зейде» озадаченно переводил взгляд с одной своей дочери на другую. Наконец он вмешался в беседу и на идише спросил, о чем спор.
Мама рассказала ему суть дела, приведя в вольном прозаическом переводе Фейгино стихотворение. Пока она ему все это объясняла, он сидел туча тучей и смотрел на Фейгу таким грозным взглядом, какого я ни до, ни после не видел на его вечно суровом, обросшем бородой лице. Когда мама кончила, он и Фейга некоторое время молча смотрели друг на друга, и у Фейги был надутый вид, как у маленькой обиженной девочки.
— Ты это сделала? — спросил «Зейде».
Фейга сразу же стушевалась и пробормотала что-то про хозяев и трудящиеся массы. «Зейде» помрачнел еще больше. Фейга съежилась и сказала, что профсоюзники из Манхэттена — это такие люди, с которыми трудно спорить. Она не виновата, что началась забастовка. Она просто беседовала с другими рабочими об условиях труда в «Голубой мечте», и они сами, по собственному почину, решили забастовать. Что она могла поделать?
— Папочка! — заелозила она, поглаживая его по руке: это был ее коронный способ его успокоить. — Папочка, не сердись на меня; я этого не перенесу.
«Зейде» встал и в гневе вышел из комнаты.
* * *
Забастовка вскоре выдохлась. Папин мастер рассказал ему, что на самом деле забастовка началась не столько из-за Фейги, сколько из-за поведения Бродовского и из-за манхэттенских агитаторов. Однако калифорниец приехал в Нью-Йорк как раз тогда, когда сумятица была в самом разгаре. Машины стояли без движения, помещение прачечной было замусорено, половина рабочих без дела слонялись вокруг здания, а остальные сидели дома, решив, что Бродовский их и вправду уволил. Так что калифорниец первым же поездом уехал домой. Папе пришлось пойти на поклон к Корнфельдеру и Уортингтону и принять их кабальные условия, чтобы не разориться вконец. Ли не могла подать заявление о приеме в Корнеллский университет. Мои шансы поступить в Колумбийский университет были близки к нулю. Папа снял для «Зейде» и тети Фейги крошечную квартирку около Минской синагоги, а мы переехали с Лонгфелло-авеню в другой район Бронкса — Пелэм.
Вскоре после эпизода с «хозяином Гудкиндом» Фейга была арестована за то, что приняла участие в бунте на Юнион-сквер. Фейга ударила полисмена по голове плакатом с надписью, протестующей против жестокостей полиции. Вероятно, сказались общие гены с мамой, пошедшей с кирпичом на сторожа. Плакат был, должно быть, на довольно тяжелой палке, потому что полисмен свалился ничком, и его увезли в машине «скорой помощи». Фейга оправдывалась тем, что, когда полиция накинулась на демонстрантов, этот полисмен начал ее лапать. Когда Фейга стукнула его плакатом, это был, по ее словам, вовсе не политический акт, а рефлекторное действие, вызванное оскорблением ее женской скромности.
Читать дальше