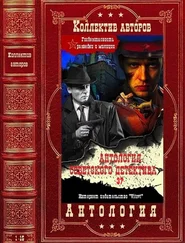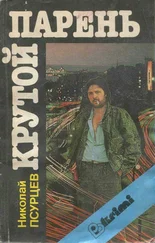Сашины дружки кривлялись, хихикали и тугонько писали на меня. Водка и пиво отчаянно гонят из организма мочу.
Цеплялись друг за друга вагоны на кольцевой железной дороге — будто целовались, будто трахались, чмокали, хлюпали металлически. Диспетчер матерился безвредно. Два оскорбленных классным руководителем пионера в ожидании поезда лежали на рельсах. Недоброкачественная, мятая женщина стояла у пакгаузов и блокгаузов и поднимала и опускала свою пыльную юбку — семафорила разрешающе таким образом проходящим и проезжающим машинистам и их помощникам, а также проводникам, стрелочникам и сцепщикам. Выпархивающие из-под юбки летающие насекомые женщину не беспокоили. Она давно уже привыкла к осиному гнезду у себя между ног…
Зависший надо мной жирный плюшевый шмель, размером с воробья, нудно гудящий в утробе, лениво трогающий пустоту лапами, посмотрел мне в лицо своими сотовыми, сетчатыми, клетчатыми, ромбовыми глазами и сказал мне внятно и ясно, без осуждения, буднично: «Ты говно! Ты гадкое, мерзкое, тухлое говно! Ты был говном, ты есть говно, и ты всегда будешь говном… Всегда…»
Саша Харин уже выдрал меня из рубашки. Меня тошнило, и я замерзал. Брюки и трусы с меня срезали Сашины друзья и приятели, человек семь-восемь — икающие, рыгающие, гогочущие, — старыми, истертыми, точенными-переточенными охотничьими ножами, сопливо шмыгая носами, копошась, суетясь, рыская глупыми глазками уже в нетерпении по моему голому телу, плохие ребята, простые ребята, бяки обыкновенные, буки безобразно банальные…
— Хорошо, хорошо, хорошо, — обессиленно прошипел я. Не слышал себя, но чувствовал тем не менее, что что-то я все-таки говорю. Горло мое съежилось и мешало теперь самому же себе говорить и дышать. — Не надо больше меня бить. Не надо меня колотить. Пожалуйста, я прошу вас, я умоляю вас. Я не буду больше сопротивляться. Я сделаю все, что вы захотите. Правда, правда… Я могу доказать это, да, да, да, я могу доказать это… Вот я сейчас, например, встану и поцелую вас, Саша. А потом присяду и полижу вашу жопу, Саша. Я знаю, что вам очень нравится, когда вам вылизывают жопу, Саша. Я видел однажды, как вы кричали от наслаждения, когда вам вылизывали жопу, Саша… Вот я сейчас встану и добровольно и даже, может быть, с удовольствием и непременно крепко вас поцелую… Я встаю, я встаю…
— Стоп! — сказал Саша, вздрагивая веками и вздергивая носом, кружил зрачками по белкам, предчувствуя привычно-приятное, рефлекторно, как собачка, как хомячок, как обыкновенная морская свинка, отпихнул растопыренными, заинтересованными руками от меня своих дружков-корешков, тер коленками друг о друга, бился вздувшимся членом о зассанные трусы, сука…
Я встал на ноги и вытянулся во весь рост, не стесняясь своей наготы, красуясь, более того, своей наготой, возбуждаясь даже от того, что все вокруг рассматривают внимательно мою наготу, забирая и силу и настроение у тех, которые сейчас видели мою наготу, улыбался разукрашенным кровью ртом, строил — кокетливо — забитые слезами и страхами глазки, шевелил похотливо и призывно пальцами на руках, покачивал обольстительно тощими бедрами, дурашливо, озорно и необычайно, как мне вдруг показалось теперь, сексуально… Поднялся на цыпочки, смял руками нежно Сашины плечи, вынул губы навстречу его лицу, будто песенку про веселых утят и гусят собрался запеть, про медвежат и волчат, про поросят и телят, притек ртом к его горлу, лизнул умильно и игриво его кадык, один раз, другой раз, третий раз и впился после, для Саши Харина, конечно же, совсем неожиданно, в его шею, чуть ниже левого уха, зубами, разумеется, и глубоко, и без отвращения, и с наслаждением, трясясь от насыщения и удовлетворения, выкачивая с клекотом из вен его кровь и глотая эту кровь затем с приятностью и упоением.
Висел на визжащем и скачущем Саше, как обезьяна на банановом дереве — во время урагана, допустим, — сомкнув руки на его шее, переплетя ноги на его бедрах, урчал, рычал, стонал, полный сил, молодой, перспективный, не говно уже, человек уже, человек еще: драл Сашину шею — необученно, но жестоко, напивался кровью, набирался от нее жизни, обжигался, терпел, переполненный восхищением, опьяненный восторгом, теперь неправдоподобно выносливый и без ограничения целеустремленный… Так волшебно тогда было, бог мой, я помню, так славно… Сашины дружки-корешки пробовали оторвать меня от него, лупили меня чем попало по спине, по плечам, по затылку… Но бесполезно. Боль тогда мне тоже приходилась не в тягость. Я кончил в тот день, кажется, в первый раз в своей жизни… Саша Харин, обессиленный и отяжелевший, рухнул через какое-то время на землю, точно в детскую песочницу, на замки, на домики, на куличики… Чесал о воздух свои квелые глаза, брыкался конвульсивно ногами, задыхался, что-то жалко мурлыкал… Толстые тетки в окнах перестали орать. Комкастые мужики запихнули свои мелкие члены обратно в штаны. Растерявшиеся, обескураженные Сашины дружки-корешки снуло и заторможенно кружили вокруг песочницы — к нам с Сашей не приближались, боялись чего-то, наверное, не знали, что делать с нами, наверное…
Читать дальше