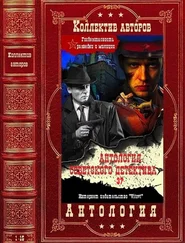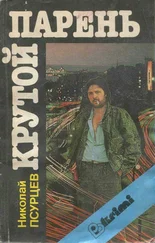Равный никогда не обидится на мою грубость и на мой невежливый тон… Равный никогда не расстроится оттого, что я не уделяю ему достаточного внимания, не замечаю его и, случается, что даже и не прислушиваюсь… Равному никогда и в голову не придет решить когда-нибудь, что своим неожиданным отъездом, например, или отлетом, уходом я его оскорбил, или унизил его, или я таким образом предпринял попытку грязно и оскорбительно поиздеваться над ним. Он равный, а значит, он сильный, все понимающий, самодостаточный… Он не желает привязанностей. Он имеет лишь цель. Цель для него чрезвычайно важна… Да, но и к ней-то он, собственно говоря, привязан не более, чем и ко всему остальному на этой земле, или, допустим, ко всем остальным… Он управляет собой, а значит (что, признаться, к сожалению, уже давно стало банальностью, но это тем не менее действительно так), управляет и миром…
— Давай просто помолчим, — предложил я девушке Насте. Тон сочинил себе пренебрежительный и раздраженный. — Давай, мать твою, просто посидим и помолчим! Меня достала уже, мать твою, эта наша мудовая и бесполезная болтовня!.. Давай помолчим…
Настя поймала свое отражение в черном оконном стекле. Две звезды попали ей точно в оба ее недоумевающих глаза. Недоумение вскоре вскарабкалось к негодованию. Тонкий каблучок застучал по паркету. Левая рука потянула платье к коленям, а правая задумала, треща жестоко ногтями, пощипать немного, совсем немного, диван под легкими и тугими одновременно, круглыми Настиными ягодицами. Изо рта Настя выдыхала плавящий губы жар, а носом Настя вдыхала парализующий ноздри холод. Диван под своими прелестными ягодицами Настя порвала уже через какие-то мгновения в клочья. Раны на диване пульсировали и кровоточили. Насте было мокро и неловко сидеть на той ране, но она тем не менее продолжала на ней неблагородно сидеть.
— Если тебе что-то не нравится… — проговорила Настя сквозь прикусанную губу, нижнюю, сбивая частыми, порывистыми взмахами ресниц слезы со сменивших уже некоторые мгновения назад тихое негодование на кричащую обиду глаз. — Если тебе что-то не нравится, то тебя тут никто не держит. Обязательства отсутствуют, двери открыты… Я не смею навязываться. Я не имею права даже тебя о чем-то просить… Господи, как же я на самом деле ненавижу тот мир, который ты создал, Господи!.. Когда-то… Не подумав. И не решаясь все эти миллионы лет хоть однажды признаться в совершенной ошибке…
Нет, не равная…
Два фуэте, три пируэта, один за другим, неумело, но со старанием, отдохновенно и с искренней верой в то, что я самый лучший даже в производстве фуэте и пируэтов, взлетел к потолку, буравя темечком набеленную плоскость, известка, как перхоть, сыпалась на рубашку, упал на пол, даже ноги не подогнулись, подпрыгнул на мягких подошвах…
С лучезарным, одухотворенным, сияющим лицом, пламенеющим, ослепляющим, обвалился на колени, смеялся сквозь плач и плакал сквозь смех, отталкивался руками от пола, охая и кряхтя, тащил-волочил себя к дивану и к сидящей на нем замечательной девушке Насте, но не равной…
— Давай просто помолчим… — медово пел, источая нежность и желание из глаз, и вроде как непроизвольно, и словно бы случайно, и будто бы невзначай, скромно демонстрируя, сделав вид, что не в силах больше руководить собой и сдерживать себя, свою сексуальную распущенность, ха-ха-ха, и, можно даже сказать, извращенность, массировал правой рукой свой спрятанный под тонкими летними брюками вздувшийся член. — Давай, мать твою, просто посидим и помолчим! Меня достала уже, мать твою, эта наша мудовая и бесполезная болтовня!.. Давай помолчим… Мы много говорим, — прошептал влажно и горячо, подобравшись уже в тот самый момент к какому-то Настиному уху, кажется к левому. — Мы мало занимаемся делом…
…Рычал, матерился, задыхался…
Забыл, как меня зовут.
Наплевал на свою прошлую жизнь и на свою будущую смерть.
Взбирался отчаянно и самозабвенно к осознанию себя Богом…
Не щадил девушку Настю, точно так же как, собственно говоря, не щадил и самого себя…
Упивался бесконечным, непрерывным, непрекращающимся наслаждением. Но и не верил вместе с тем, что подобное наслаждение случается.
Одежду у Насти не отнимал.
Надежду у Насти не отбирал.
Сам приспустил только свои брюки и свои трусы. Освободил от стеснения рубашки свою грудь.
Секс в одежде возбуждает и приносит еще больше удовольствия, чем секс без одежды.
Заговорил вдруг в момент наивысшего счастья на мертвом и давно забытом уже всеми языке индейцев ассинибойя.
Читать дальше