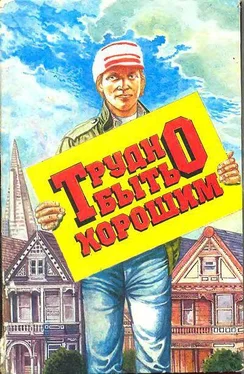Чем, кроме рытья нор, может заниматься человек в такие времена?
Развешиваю сушиться белье. На втором этаже непривычное запустение — кажется, что хозяева бежали, позабыв в спешке всю эту роскошь. В ванной из неисправного крана капает вода. Я улыбаюсь — все-таки привычка исполнять обязанности по дому неистребима — вооружившись ключом, отворачиваю кран и меняю прокладку для поддержания прочного мира.
Если бы мог, я бы… Если бы только мир был устроен надежнее, жена понимала, а дочка верила. Если бы каждому из нас при рождении выдавали бронированную гарантию жизни. Если бы не было «Минитменов», если бы мы были бессмертны, если бы как-то могли изменить законы термодинамики… Я бы с удовольствием забросил подальше лопату и молился на коленях величайшей метафоре нашего века — клянусь.
А пока приходится быть мастером на все руки — сантехником, землекопом; приходится суетиться, делать странные вещи, чтобы выжить и сохранить семейный очаг.
И вдобавок ко всему никак не могу уснуть. Устал до смерти. Целый час провозился с печью, выгреб оттуда пуд сажи. Если б можно было сделать все по-другому… Прочистил трубы, отдраил сток, вынес мусор. Смотрю с тихой надеждой на горящие во дворе новогодние огни.
Уже светает, когда Мелинда стучит в дверь.
— Папа, — орет она, и в мгновение ока я у двери. Пытаюсь ее успокоить, но она, продолжая вопить, колотит в дверь. Это неизбежно — меня начинают мучить угрызения совести.
— Выпусти меня! — кричит Мелинда. — Быстрей! Мне надо! Я больше не могу!
— Ангел мой, попробуй…
— Я писать хочу!
Дилемма. Гнусная ситуация. Прильнув к двери, пытаюсь придать своему голосу нежные отцовские интонации. Представь себе, говорю я, что мы едем в машине, а до ближайшей стоянки пятьдесят миль. Потерпи до утра, а к тому времени я налажу вам канализацию.
— И долго терпеть? — спрашивает Мелинда.
— Нет, совсем не долго. Ты же большая девочка, ляг на кровать, посчитай барашков…
— Я же в постель написаю!
— Не бойся.
— А я боюсь. Лучше открой. Открой! А то еще минуту, и…
Ну тогда давай в бутылку.
— В какую бутылку?
— Поищи там какую-нибудь. В мамином шкафу посмотри.
Несколько секунд обдумывает мои слова. Могу себе представить, как дрожат ее веки, как она стискивает зубы.
— Придурок! — рявкает Мелинда, и мне не в чем ее упрекнуть. — Это глупо! Я же девочка! Я не могу писать в бутылку! Мне нужно… Господи, это ж надо!
Она начинает стонать. Война нервов. Дочь знает мои уловки, а я — дочкины.
— Папа, — говорит она. — Ты хоть секунду можешь вести себя как нормальный человек? Тебе не кажется, что ты поступаешь жестоко? Сначала разворотил весь двор динамитом, потом насильно запираешь нас, а теперь даже не даешь мне сходить в туалет. Тебе не кажется, что… ненормально все это? Что-то не в порядке? Если бы я так поступила с тобой, как бы ты себя чувствовал?
— Плохо, — отвечаю я. — Наверняка чувствовал бы себя просто ужасно.
— А если бы я заставила тебя писать в бутылку? Во флакон из-под духов. Не очень-то красиво, а?
— Кошмар.
— Ну так?
— Что? — спрашиваю я, потому что больше мне сказать нечего.
Она бьет в дверь. И тихим, спокойным, совсем не злым голосом — голосом взрослого человека — говорит:
— Если бы ты сейчас был на моем месте — ты бы испугался. Ты бы заплакал. Ты бы ненавидел меня, ты бы рыдал, потому что тебе бы казалось, что я веду себя, как сумасшедшая, потому что… потому что это страшно, вот почему. И тебе скоро бы стало так страшно, что ты не смог бы спать по ночам или просыпался бы все время от кошмаров. И потом… — Мелинда умолкает. Она чувствует, что я креплюсь из последних сил.
— Папа? — говорит она шепотом.
— Я тут.
— Знаешь еще что?
— Что?
— Тебе стало бы очень грустно. Так грустно, что ты бы не выдержал.
— Знаю, моя хорошая.
— Так грустно, как сейчас мне.
— Да.
— Выпусти меня, — просит Мелинда.
Это самые мучительные минуты в моей жизни. Я все же нахожу в себе силы сказать ей, что пока не могу ее выпустить.
— Там вроде термос есть, — говорю я. — Разбуди маму, и она тебе его найдет.
Мелинда все-таки права. Я больше не могу этого вынести. Когда она начинает говорить, что ненавидит меня, я отступаю от двери. А когда заливается слезами, и Бобби, проснувшись, начинает командовать, я выключаю свет в холле и ухожу на кухню, чтобы собраться с силами перед последним актом драмы.
Рассвет великолепен.
Горы меняют фиолетовый оттенок на ярко-розовый, и едва бьет шесть часов, как у ворот останавливается такси. Выйдя во двор, я извиняюсь перед водителем и выписываю ему щедрый чек. «А на чай?» — спрашивает шофер. Еще совсем мальчишка — рыжий пушок на щеках, круглые очки — но дело свое знает. Не моргнув глазом, взял еще двадцать долларов. «Могли бы и позвонить, — говорит он мне, качая головой. — Шесть утра, как-никак, черт побери!» И, выматерившись, уезжает, оставляя за собой запах жадности и резины.
Читать дальше