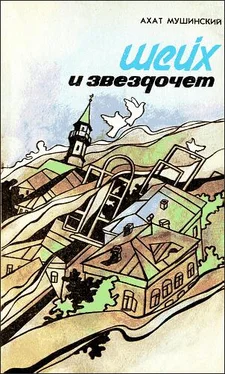Написав эти строки, я полез в свой архив и принялся разбирать тот уголок шкафа, где береглись оставшиеся от Николая Сергеевича папки с газетными вырезками, рукописями… Были среди них и папки, которые в свое время разобрать я не успел, в них хранились старые программки, афишки, билетики… Я думал, пересмотреть их никогда не поздно. И вот потянул за тесемку одной из папок, охранный бантик распустился, и на меня глянули десятки вензелей позабытых, но когда-то, видать, известных музыкантов, певцов, коллективов на пропахших древностью листах афиш и программок. Читаю: «Актовый зал Госуниверситета. Бетховенский цикл из пяти концертов. Все 32 сонаты исполняет Элинсон», «Программа концерта симфонического оркестра им. Осоавиахима. Исполняются произведения Бетховена, Глазунова, Гуно…», «Сергей Родамский — первый западный вокалист на советской сцене…», «Гастроли известной итальянской сопрано Марии Сальчи…"… И всюду на полях рукой Николая Сергеевича карандашные пометки, которые перерастают в рецензии, для которых полей и оборотов уж не хватает, появляются вкладыши. Выходит, музыка для него была не просто шумом.
Но разве, не имея слуха, можно понимать и любить музыкальное искусство? А разве нельзя, не умея, скажем, рисовать, самозабвенно любить живопись и отменно в ней разбираться?
Я задумался: это непонятное охлаждение к музыке, неприятие ее с возрастом?.. Какая-то здесь тайна. Вспомнился образ великого русского писателя, когда-то очарованного музыкой, а затем вдруг объявившего ее гипнозом и дурманом. Вряд ли существует однозначный ответ на человеческое перерождение. Говорят, через три десятка лет у человека полностью меняются все клетки, и он превращается в совершенно другого человека, лишь внешность прежняя. Возможно. Однако насчет данного случая я предполагаю так: на определенном витке жизни некоторые страстные поклонники музыки, когда у них есть еще свое основное творческое дело, от музыкального «дурмана» стараются освободиться. Слишком могущественны звуковые хитросплетения всего лишь, казалось бы, каких-то семи нот. И приходится выбирать: или под звуки вальсов и серенад топтаться в своем главном деле на одном месте, или, отметая сладкозвучия, сохраняя душу неприкосновенной от искусственных, гипнотических подъемов и расслаблений, идти вперед. Николай Сергеевич выбрал второе.
— Интересно, интересно, — повторял Николай Сергеевич, слушая рассказ Шаиха о Кияме Ахметовиче Мухаметшине и его музее-квартире.
Шаих отвечал, что он также и о нем Кияму-абы рассказывал, и тот тоже повторял: «Интересно, интересно», только на своем родном языке.
— А что, Николай Сергеевич, я вас с ним познакомлю. Это будет очень «интересно, интересно».
Было далеко за полночь. После дневной жары в открытое окно наконец-то дохнуло свежестью. Я собрался домой, но тут обратил внимание на желтый саквояж, нахально выглядывавший из-под письменного стола. Почему — нахально? Да потому что в этой комнате мы с Шаихом с последним огрызком карандаша были знакомы. Но мы наивно ошибались. Вот целый саквояж из новиковских залежей появился и требовал почтительного внимания.
— Николай Сергеевич, что за чемодан?
— Где? A-а! Это… Это саквояж. Потерял его, думал, не найду больше. А вчера полез зачем-то в сундук и случайно обнаружил.
— А что в нем, клад?
— Коллекция открыток, — после некоторого молчания отозвался он. — Старая Казань… Посмотрите, еще мой дед собирал. И мне подарил. А я и разобрать не смог…
Мы с Шаихом принялись дергать саквояж, ковырять блестящие замочки ключом, покоившимся тут же, на ручке. Но замочки не поддавались.
— Не так, — подосадовал Николай Сергеевич, — нуте-ка… Очень просто ларчик открывается, очень просто.
Замочки в его руках молодо щелкнули, и клад открылся.
Да, в саквояже были открытки. На нас пахнуло с них старинным, полуазиатским, полуевропейским городом, повеяло зноем его камня, прохладой рек, озер, каналов, оглушило перезвоном колоколен и переливчатыми песнями муэдзинов с бесчисленных мечетей Забулачья. Тускло поблескивающие, крепкие, открытки были в превосходном состоянии.
Шаих показал на одну из них.
— Такую я видел у Саши Пичугина, сына вашего знакомого профессора.
— И он открытки собирает? — спросил Николай Сергеевич.
— Собирает. Как и у вас — Казань…
— И большая коллекция?
— Огромная.
— Любопытно… Ведь и Семен Пичугин, его отец, собирал… Его коллекция была крупнейшей в городе.
Читать дальше