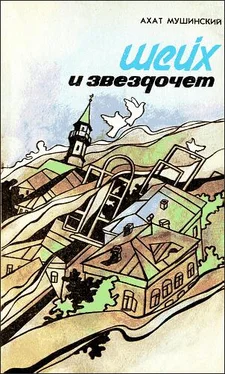— После войны. В драму вернуться не смог… Тогда же и кисть, и резец в руки взял. Для своего удовольствия. Да и переплелись профессия с увлечением, сам себе реквизит делал, ящики волшебные свои узорами расписывал, цветы мастерил… Так и поднялся, и в обмороки падать перестал. Жена, говорит, здорово, помогла, но сама долго не прожила. — Шаих ввернул лампу в патрон, полез под матерчатую шляпку настольного абажура, и комната наполнилась желтоватым отсветом. — А внук и внучка у нас в школе учатся — Юля и Саша Пичугины.
— Не Семена ли Васильевича, профессора математики, родственники?
— Не родственники, а дети.
— Дети? Ах, да, да, у него же их двое. От второго брака.
— Вы знаете его?
— Знаю, — промолвил Николай Сергеевич. — Знаю… Стало быть… Что, он, старше Кияма Ахметовича, тестя своего?
— Представления не имею. — Шаих поскреб затылок утиным носиком финки. — Я ведь его не видел.
— Хм-м… Семен Васильевич, кроме того, что математик, большой специалист по литературе девятнадцатого века, пушкинскую эпоху у нас, как он, вряд ли кто знает. А его математический анализ стиха — сенсация!
Несмотря на соразмеренный с покашливанием говор Николая Сергеевича, я уловил в его голосе встревоженность. И спросил:
— Интересно, что профессор сказал бы о вашем «Пушкине-декабристе»?
— Не знаю, не знаю… Давно его не видел. Есть, так сказать, общепринятая точка зрения, академическая… Но профессор Пичугин отличался своеобычным мышлением, он выдвигал весьма смелые гипотезы. У-ту-ту… — повитал он в облаках и, вернувшись на землю, осведомился: — А что это Киям Ахметович голубятней интересовался?
— Откуда знаете? — удивился Шаих.
— Так это же он тогда у меня спрашивал о хозяине голубятни. Я и пригласил тебя к нему.
— Ах да, Николай Сергеевич, из головы вылетело, рисовал он их, наброски делал… Задумал картину, на которой мои птицы будут центральными героями. Он сказал: это будет что-то необыкновенно светлое и жизнеутверждающее.
— Поразительно, п-просто п-поразительно! — Волнуясь, Николай Сергеевич слегка заикался. — Сколько м-можно ломать человека войнами, бить его, калечить, а он… а он неуязвим душой, чист и находит силы п-побороть инерцию доживания, отрывается от окуляров военного прошлого и вперед глядит глазами своей детской мечты. Он же, ты говоришь, с детства мечтал рисовать?
— Да, Николай Сергеевич, с детства.
— Настойчиво судьба закольцовывает свои сюжеты!
— Вы же, Николай Сергеевич, говорили, что жизнь богаче самого смелого вымысла и совершенно непредсказуема.
— Я в том смысле, что к старости она настойчиво напоминает человеку о его детстве. Я знаю одного ученого почтенного… Он к своему восьмидесятилетию купил себе игрушечную железную дорогу, о которой мечтал ребенком. Утешился ли — другой вопрос. — Николай Сергеевич надсадно закашлял, перевел дыхание. — Лишь с возрастом, друзья мои, поймешь всю лотерейную уникальность жизни. А что, так прямо и Эрмитаж у Кияма Ахметовича?
— Ну нет, но… — Шаих взял альбом с золоченой надписью «Эрмитаж» и стал рассказывать о музее на Алмалы…
По живописи, архитектуре у Николая Сергеевича было обширное собрание. Помню, любил у него листать альбомы из серии, выпущенной в тридцатые годы тогда еще здравствовавшей Академией архитектуры СССР. С их помощью я совершал чудесные путешествия по Вене, Венеции, Риму, Версалю… Бесконечно любил Париж. Этот альбом я изучил до последней золотой пылинки проржавевших скрепок. Кажется, отправь меня в этот город городов, и я бы запросто смог работать там экскурсоводом для… советских туристов (несерьезное отношение к иностранному языку в школе не позволило бы, к сожалению, расширить круг обслуживания).
Николай Сергеевич превосходно знал всемирную архитектуру. Живопись, на мой взгляд, меньше. Но кто, как не он, помог нам впервые вдохнуть утренней прохлады и полуденного зноя французских импрессионистов, горной чистоты пейзажей Рёриха-отца и Рёриха-сына (произносивших «Рерих» он деликатно поправлял: «Рёрих»). Однако в комнате, за исключением двух наших с Шаихом «шедевров» с фантастическими сюжетами, с космонавтами и ракетами, пришпиленными конторскими кнопками к книжным полкам, больше из «живописи» ничего не имелось. Своеобразное у Николая Сергеевича было отношение к красоте: страстное к ней тяготение и в то же время абсолютный аскетизм. В собственном житье-бытье он довольствовался голой лампочкой под потолком и газетными коврами на полу. Какая-то дисгармония в нем ощущалась. Например, как мне казалось, он не понимал музыки. Понимал, но не воспринимал, как все. Я безуспешно пытался приобщить его к моим эстрадным кумирам, певшим большей частью на английском, но скоро понял: у него просто-напросто нет музыкального слуха, без которого, считал я, слушать музыку — все равно что в противогазе цветы нюхать. Он лишь сочувственно переводил мне английские тексты песенок. Любую музыку по радио он выключал как мешающий работе шум, а песни ценил только за их слова. Он обожал: «И на Марсе будут яблони цвести», а также: «Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды… Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом, у нас еще в запасе четырнадцать минут». Ему не нравилось «закурим», и он напевал: «Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом, у-ту-ту!..» Была еще пара песенок, которые он при особо праздничном настроении намурлыкивал на свой один неизменный лад. Тут он был похож на от отца-деда оставшийся «музыкальный ящик» с металлическими дырчатыми пластинками, меняй их — не меняй, все одна монотонная мелодия.
Читать дальше