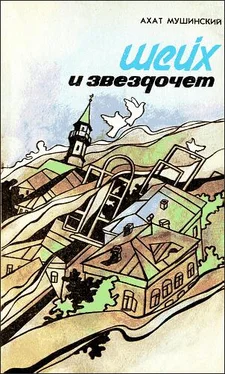Из детей первым юдоль земную оставил сын. Ровно через девять месяцев отлетела душа дочери. За детьми последовали внуки. И с каждой новой смертью бессмертный Мануэль убеждался, насколько правы древние: человек умирает столько раз, сколько раз он теряет близких. После гибели в автокатастрофе обожаемой правнучки Франсуазы он кинулся в Сену. Утонуть, однако, не удалось, вытащили, откачали. И он, молодой и красивый, продолжал жить. Разменяв второй век, Мануэль перестал считать годы. Существование в чужом времени, среди чужих людей оказалось пыткой. Беда изобретения эликсира заключалась в том, что оно дарило и бессмертную память. Концовка романа необычна, но в духе Николая Сергеевича: в середине XXI века бессмертного космонавта Мануэля Бока сажают в звездолет Международной ассоциации космонавтики Земли, и он летит к далекой звезде, к которой простому, точнее, нормальному человеку в жизнь не долететь, просто-напросто не хватит ее, жизни-то.
Проглотив роман (Николай Сергеевич прочел нам лишь первые две главы), мы дружно накинулись на автора за неправдоподобную забывчивость Мануэля, как-то он уж слишком небрежно отнесся к своему изобретению, и как это он его забыл, не смог восстановить, когда на руках умирают жена, дети, друзья? И вообще… Мы кусали молодыми зубами главу за главой, абзац за абзацем… Но вот сколько лет прошло, я прочитал много всякой литературы, в том числе и фантастической, но это произведение, даже на машинке не отпечатанное, в памяти осталось до мелочей, до имен-фамилий второстепенных действующих лиц.
16. Полуночники
Уже за полночь, а мы все у Николая Сергеевича. В руках у меня тонюсенькая серенькая книжечка — стихи Надсона. У Шаиха — финка и ламповый патрон. Разговаривая, мы, как повелось, что-то листали или чинили. Иногда и молча сидели и не чинили ничего, загипнотизированные каким-нибудь прошловековым «Око Юмой — японским шпионом» или «Призраком острова Прощай Мама» из антикварной части библиотеки Николая Сергеевича.
В тот вечер Николай Сергеевич был в превосходном настроении: окончил объемистую статью, которую через день, в понедельник, предстояло отвезти в обсерваторию. По правде сказать, он всегда был в превосходном расположении духа. Афоризм, что жизнь — это поток различных настроений, его не касался. Он сказал однажды: надо уметь управлять своим настроением, ибо оно, если не повинуется, то повелевает. Я запомнил. Потом и у какого-то философа подобное изречение встретил. Выписал, над письменным столом повесил. Но повелевать своими настроениями так и не научился.
Шаих крутил финкой, как отверткой, и рассказывал о знакомстве с Киямом Ахметовичем, о его квартире — «настоящем Эрмитаже на Алмалы». В то время ни в Ленинграде, ни в Москве мы еще не бывали, но что такое Эрмитаж или Третьяковка, — каждый из нас, разумеется, знал. Шаих каким-то образом лучше знал. Хоть и слыл технарем (он мечтал о Московском физико-техническом), рыбаком да голубятником, — его познания в истории, литературе, живописи меня поражали. Откуда? Дымит целыми днями канифолью или голубей гоняет и вдруг на уроке литературы заводит спор с учителем, мол, Сальери, будучи сам талантом мировой величины, учителем Бетховена, Шуберта, Листа, не мог отравить Моцарта: «Гений и злодейство — две вещи несовместные». И если Мешок, так прозвали учителя русского языка и литературы (что-то общее было между ним и этим бесформенным видом тары), и хотя он (я не могу назвать его по имени, оно безвозвратно кануло в закоулках моей памяти) очень спокойно и профессионально, то есть пересыпая терминами и умными словечками, осаждал наскоки юного дилетанта, то на внеклассном обсуждении балета по одноименной сказке Тукая «Шурале», на который в театр мы ходили всей школой, взял верх в завязавшемся споре лишь волевым приемом, выставив оппонента за дверь. А началось с того, что Шаих заявил: Шурале хоть и шайтан, но симпатичный, думал поиграть с дровосеком Былтыром и помочь ему согласился — развалить бревно надвое, а тот выбил клин из разрубка и защемил бедолаге пальцы. Мешок сказал, что Шаих истолковывает увиденное шиворот-навыворот, не так, как положено, не дорос он до балета, не знает Тукая. Шаих-то как раз знал, но с Мешком у него были свои счеты и лишний раз показать, что Мешок он и есть мешок, не преминул, ответив: не один он так понимает, недавно прочитал сказку четырехлетнему соседу, и тот заплакал: «Жалко Шурале, остался закапканенный в лесу, что с ним будет?» «Вот и у тебя мышление на уровне четырехлетнего младенца», — съязвил педагог. Тогда Шаих припомнил не то рассказ, не то пьесу современного татарского писателя, где Шурале брался под защиту — это веселый лесной шалопай, вечно влипающий в истории, из которых сухим ему выйти никогда не удается. «Это все придумки… Ревизия классики!» — забрызгал слюной учитель словесности. Тут-то Шаих и подлил масла в огонь: да ведь и сам Тукай был никем иным, как Шурале.
Читать дальше