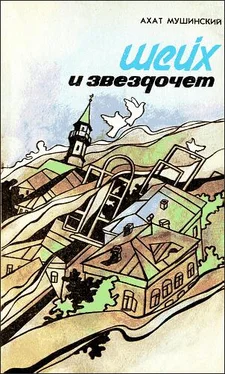— Обещаю, — сказала Юлька. — Но и ты обещай, если я тебе надоем, то и тотчас же...
Выяснение отношений прервало появление во дворе темной, сгорбленной, боязливо семенящей по скользкому насту фигуры Семена Васильевича.
Юлька с Шаихом не разбежались, как предполагалось, а вышли ему навстречу вместе.
Он вышел от нас в начале двенадцатого. Никого в жизни не провожавший дальше своего порога, Николай Сергеевич увязался за дорогим гостем и проводил его до школы, откуда тому до дому было рукой подать. Я слышал, как они выходили. На кухне, в сенях они продолжили какой-то свой неоконченный разговор. Как сейчас помню, начат он был до нашего прихода к Николаю Сергеевичу с катка, а продолжен после того, как мы ушли от него.
— Довольно ворошить прошлое, — сказал Николай Сергеевич. Он всегда говорил громко.
— Я пред тобой, Николай, как на духу, повинился. — Голос профессора тише, но тверже. В нем одновременно и горечь долгих, бессонных раздумий, и сладость освобождения от какого-то тяжелого душевного груза, и определенность.
— Сема… — попытался вставить слово Николай Сергеевич, но ему это не удалось.
— Погоди, Николай, погоди... Знал бы, сколь много я отдал бы за возможность переписать кой-какие страницы моей жизни. Какие опечатки в ней, какие ошибки! Как судьба сурова своей необратимостью!
— Сема...
— Погоди, Николай, погоди...
Пререкаясь, они по-стариковски медленно спустились по нашей певучей сенной лестнице, сошли с обледенелого крыльца, скрип-скрип проскрипели по промороженным мосткам со двора на улицу.
Я вышел из комнаты по малой нужде. Из неплотно прикрытой двери Николая Сергеевича падала на пол кухни косая полоска света. «Опять комнату незамкнутой оставил», — подумал я. Однажды родители проучили меня. Оставил дверь квартиры (не квартиры, конечно, — комнатки), незапертой, а они пришли и спрятали всю верхнюю одежду. Я вернулся домой из школы, отец заявляет: ограбили. Я в шкаф, там пусто. Лишь к вечеру, начитавшись мне морали, настращавшись вдоволь, вытащили припрятанные шмотки. Они правы: на то и замок на двери, чтобы его запирать. Но вот сколько лет прошло, а чувство какой-то горькой обиды за обман, за фарс с торжествующими подмигиваниями и воспитующими жестами для глухонемых над моей повинной головой в душе осталось.
Когда вернулся, дверь Николая Сергеевича была уже прикрытой, плотно прикрытой. Я не придал этому значения, но меня насторожил шорох в глубине кухни. Я спросил: кто там? Никто не ответил. Тогда я включил на нашей половине кухни свет. Но силы нашей лампочки хватало лишь до умывальника Шакировых, а дальше к парадной двери, опять полная тьма. Перед тем, как лечь спать, я поделился своими тревожными ощущениями с братом, который корпел за письменным столом над морем бумаг, испещренных химическими формулами. Родители за шкафом спали. Брат внимательно посмотрел на меня — не разыгрываю ли его, с пощелкиванием застоявшихся костяшек — было у него такое, с юности, — лениво разогнулся и вдруг, как тигр, в два стремительных, мягких прыжка выскочил на кухню. Я — следом. Брат щелкнул друг за другом всеми тремя выключателями, обошел нашу общую на четыре семьи кухмистерскую, заглянул к Николаю Сергеевичу: «Никого, где Сергеич-то бродит?» Потрогал тяжелый висячий замок на двери заваленного хламом «парадного подъезда» и спустил мне в лоб средней силы, незлой шелобан: спать надо вовремя ложиться, меньше всякое мерещиться будет.
Шаих и Николай Сергеевич вернулись вместе. Но я с постели больше не вставал.
Брат из-под настольной лампы сказал на голоса:
— Живет наш ученый сосед при коммунизме, ходит, дверей не запирает, а у самого всякой всячины полно.
И ушел с головой в свое. Перечеркнул там что-то у себя, скомкал лист, бросил на пол, положил перед собой новый.

Часть третья
45. У постели больного
К весне заболел Киям Ахметович. Слабость навалилась, одолели головокружения, сердце в груди то, как заячий хвост в стужу, трепетало, то замирало, будто насовсем. Как ни крепился — слег Киям-абы, и объявил, что больше не встанет, помрет, что силы его тают с поспешностью мартовского снега.
Март в том году выдался резвый. Алмалы неудержимо двинулась талыми водами, как бурный, сторуслый Янцзы, о котором я в один из тех дней вяло ответствовал на уроке географии. Плавал, короче, глядя на весну за окном, и схлопотал безусловную «пару». И имя ее, географички нашей, уже старой, тяжело передвигавшейся женщины, помню — Валентина Оттовна. Она сказала мне огорченно, а может, с сожалением о своих былых учениках и годах своих безвозвратно минувших: «А брат твой географию знал...» Я ответил: «Он и сейчас знает». И сел на место у окна рядом с Шаихом. Мы сидели с ним вместе. Вместе и с уроков сбегали. После географии мы собирались к Кияму-абы.
Читать дальше