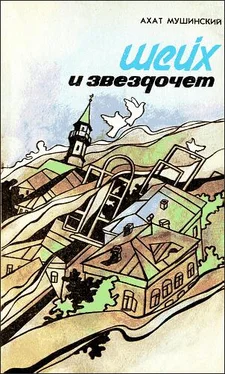— Рахмат, спасибо, не помогает. — И вдруг: — Я прочитал ваш «Эликсир молодости». Страшно долгожителем жить, страшно, не дай бох-х!
— Дело в том, что надо всем долго жить, тогда не будет страшно.
Мы с Шаихом наведывали Кияма-абы часто. И приходили к нему не за тем, чтобы поскорее сбежать. Однажды солнечным мартовским днем после урока географии сидели у него особенно долго. Починили ему его «Балтику», послушали концерт по заявкам радиослушателей. Розы Киямовны дома не было, ушла в аптеку и по магазинам, за хозяйку осталась Юлька.
Больной чувствовал себя «ужасно хорошо», смог даже с постели на стул перебраться. В полосатой (по моде тех лет) пижаме, под свалявшимся, седым от корней (давно не красился) снопом волос, он походил на кого угодно, но только не на артиста оригинального жанра, только не на художника и уж ни в коей мере — на бойца кавалерийского корпуса Доватора. Но на внешность его мы — демонстративно никакого внимания. Шаих у приемника (починил, а оторваться-таки не может, что-то подвинчивает, подкручивает). Я у Юльки замом по хозчасти. Основная наша задача: между прочим, между зримым делом потихоньку, исподволь насыщать атмосферу дома жизнестойким духом, отвлекать больного от пасмурных мыслей.
На подоконнике цветут чайные розы. Из «Балтики» льет свои тихие мелодии курай. За окном гремят по жестяному карнизу, утробно воркуют сизари. Они в эту минуту заметнее всего.
Юлька, глядя на них через тюлевую занавеску:
— Все-таки это свободные птицы, а твои, хоть и красивые, Шаих, а невольники.
— Почему невольники? — возражает Шаих. — Я их выпускаю, они сами возвращаются.
— На готовенький корм.
— Готовенький корм готовить надо, — подает голос Киям-абы. — Несколько лет назад принесла котенка, а кормить, песок за ним менять пришлось мне. — Он увидел себя в зеркале, поправил шевелюру. — Шаих, а зимой ты выпускаешь их?
— Конечно, Киям-абы, без лёта голуби мигом в кур превращаются — жиреют. Каждый день гоняю.
Мы и виду не подаем, что страшно довольны искоркой интереса больного к постороннему от его болезни разговору.
Взгляд Кияма-абы падает на чеканку, сиротливо стоящую в углу у стола- верстака. Где была прервана работа над ней, там и осталась. Мы тоже устремляем взгляды на его долгоусердный труд. Металл другой, не тот, что дал Шаих. Тот испорчен, пошел на черновик. Да и сама картина уже иная. Кроме голубятни, Алмалы, родного города с кремлем, реками, озерами, каналами, кроме всего земного шара, над голубями и голубятником теперь появились Лебедь, Дракон, Медведица, Лев — созвездия, к которым, как бы продолжая полет голубиной стаи, устремились многомачтовые фантастические корабли. И тут влияние Николая Сергеевича. Но мы об этом не заикаемся.
— Не смогу доделать, — вздыхает Киям-абы.
— А мне показалось, она уже готова, — говорит Шаих, подходя к чеканке.
— Нет, не успею, — повторяет Киям-абы.
Мы переглядываемся: опять он...
Киям-абы тянется к приемнику, выключает его.
— Шаих, родной, спой, пожалуйста, «Кара-урман».
Молвит это он на родном языке, просительно сложив руки на груди.
«Вы же не можете эту песню слушать», — хочу я сказать, держа в памяти рассказ о гибели его отца в зимнем лесу, но придерживаю язык.
Киям-абы не спрашивает, знает ли Шаих эту песню. Киям-абы просит. Он слышал, как полчаса назад, ремонтируя приемник, его юный друг намурлыкивал ее себе под нос. Логика проста: раз мелодию знает, должен и слова знать, раз песню для себя знает, должен знать и для других.
Шаих не любил уговоров. Или сразу наотрез отказывался, или тотчас принимался за выполнение просьбы. Откладывать тоже было не в его правилах. Когда откладывал, дело затягивалось до бесконечности.
Но песня — не дело. Для песен кадык не тесен. Песня для души — форточка. Эти словечки-прибаутки мой друг любил повторять, разворачивая некогда (до замужества матери) меха своей разудалой гармошки. Еще он говорил: кто весело поет, тот весело живет.
«Кара урман» — вещь тягучая, тревожная. Шаих кашляет и берет низко-низко, насколько позволяет голос:
Он и куплета не успевает спеть, как дверь распахивается, и в комнату, садя по паркету шлепанцами, вбегает, пылая красными (только что с улицы) щеками, Семен Васильевич.
— Шулды-булды поете?!
Словно и не звучала песня.
Мертвая тишина.
Ее разбивает Киям-абы. Тоном пророка Мухаммеда, вещающего повеление аллаха невежественным язычникам, он тихо, но внятно и внушительно, так, как я никогда не слышал, изрекает:
Читать дальше