— Что такое? — спрашивает парень справа от Жерара.
Колонна остановилась.
Жерар пытается заглянуть через плечо стоящих впереди. Где-то в ночной дали два параллельных ряда фонарей, освещающих дорогу, как бы сходятся у темной массы, преграждающей путь.
— Наверно, там ворота лагеря, — говорит Жерар.
Парень смотрит в том же направлении, качая головой.
— Хотел бы я знать, — начинает он, но, оборвав на полуслове, так и не объясняет, что он хотел бы знать.
По обе стороны аллеи в ярком нимбе фонарей проступают очертания строений разной высоты, разбросанных среди леса.
— А в этом бардаке целый город, — говорит Жерар.
Но конвойный эсэсовец уже незаметно подошел к нему и, как видно, услышал его слова.
— Ruhe! [52] Молчать! (нем.)
— ревет он. И изо всех сил тычет прикладом ему в бок.
Женщину в Компьене тоже едва не ударили прикладом прямо по лицу. Она тоже не отвернулась. И в ее взгляде не появилось непроницаемой неподвижности омута. Она пошла рядом с их колонной по тротуару, шагая в ногу с ними, точно хотела взвалить на себя какую-то часть, большую часть бремени их пути. Она шла в башмаках на деревянной подошве, но это не портило ее горделивой походки. Потом она вдруг что-то крикнула им, но Жерар не расслышал что. Что-то короткое, может быть, всего одно слово; те, с кем она шла рядом, повернулись к ней и кивнули головой. Но этот крик, ободрение или какое-то слово, просто какое-то слово, первое попавшееся слово, призванное разорвать молчание и нарушить одиночество — и ее собственное и тех, что шли скованные попарно, вплотную друг к другу и вместе с тем в одиночестве, потому что у них не было возможности высказать то, что их соединяло, — этот крик привлек внимание немецкого солдата, который шел по тротуару на несколько шагов впереди. Он обернулся и увидел женщину. Женщина приближалась к нему твердым шагом и — Жерар был уверен в этом — не отводя глаз. Она шла прямо на немецкого солдата, высоко подняв голову, и немецкий солдат проревел ей что-то, приказ, оскорбление или угрозу, с лицом, перекошенным от страха. Это выражение страха в первую минуту поразило Жерара, но, по сути дела, ничего в нем неожиданного не было. Любое событие, не укладывающееся в рамки упрощенного представления немецких солдат об окружающем мире, любое непредвиденное проявление протеста или твердости духа в самом деле нагоняет на них страх. И немудрено — оно напоминает им о глубинах враждебного мира, который их окружает, даже если на поверхности царит относительный покой, даже если на поверхности отношения оккупантов с окружающим миром развертываются без слишком заметных столкновений. Эта женщина, идущая прямо на него с высоко поднятой головой, рядом с колонной пленников, вдруг сразу воскрешает в памяти солдата тысячи реальных подробностей: грохот ночных разрывов, смертоносные засады, возникающих из мрака партизан. И немецкий солдат ревет от страха несмотря на то, что на улице ласково светит зимнее солнце, несмотря на то, что впереди и позади него шагают такие же, как он, немецкие солдаты, несмотря на то, что он сильнее безоружной женщины, он ревет и замахивается на женщину прикладом своей винтовки. Несколько секунд они смотрят друг другу в лицо, он все еще ревет, а потом удирает вдогонку за своим рядом в колонне, бросив все-таки напоследок еще один, полный трусливой ненависти взгляд на женщину, застывшую на месте.
Когда три дня спустя пленников вновь гнали через Компьень на вокзал, на улицах никого не было. Только в некоторых окнах мелькали лица и пронзительно звонили будильники в неосвещенных домах.
С тех пор как эсэсовец вновь вернулся на свое место рядом с ними, парень справа от Жерара не произносит больше ни слова. Колонна по-прежнему стоит неподвижно. Жерар чувствует, как холод постепенно парализует его; точно ледяная лава, он заливает постепенно все его внутренности. Усилием воли Жерар не дает себе закрыть глаза, стараясь запечатлеть в памяти эту длинную аллею между двух рядов колонн и за освещенной зоной темную массу деревьев и домов. Жерар твердит себе, что не каждому в жизни выпадают такие впечатления, что надо воспользоваться этим до конца, насмотреться на окружающее. Он рассматривает высокие колонны, орлов тысячелетнего рейха, со сложенными крыльями и острым клювом, нацеленным прямо в снежную тьму, их омывает свет десятков фонарей, который на этой высоте и на этом расстоянии кажется неярким, но резкими бликами ложится на середину дороги. Недостает одного, думает Жерар, борясь с искушением закрыть глаза, стараясь не поддаться теперь, в самом конце пути, цепенящему холоду, который постепенно заливает его внутренности, его мозг и вот-вот схватится, как говорят о желе, о майонезе, о некоторых соусах: сейчас схватится, — недостает одного: прекрасной, величавой оперной музыки, которая довершила бы изуверский комизм происходящего; странно, думает он, что никто из эсэсовцев или по крайней мере те из них, которые наделены воображением, — хотя черт его знает, есть ли вообще воображение у эсэсовцев, якобы наделенных воображением, — не подумал об этой детали, об этой последней подробности постановки. Но вот глаза Жерара закрылись, он качнулся вперед, еще минута, и он бы упал, но это встряхнуло его, он выпрямился, удержался на ногах. Он поворачивается к соседу справа — сосед справа все видел, он неприметно пододвигается к Жерару, чтобы Жерар мог опереться на его левое плечо, на его левую ногу. «Спасибо, старик, — говорит ему Жерар мысленно, взглядом, потому что эсэсовец по-прежнему начеку, — спасибо, все прошло, мы прибыли; спасибо, друг», — говорит ему Жерар, не разжимая губ, не говоря ни слова, одним только взглядом; взгляд — вот все, что нам осталось, последняя человеческая роскошь — свободный, не подвластный воле эсэсовцев взгляд. Конечно, это ограниченный способ выражения, а Жерару хотелось бы поделиться с другом, левое плечо и нога которого не дают ему упасть — но глазами этого-то как раз и не скажешь, — поделиться своей мыслью насчет музыки, прекрасной и величественной музыки на фоне зимнего пейзажа и этих неслыханно кичливых каменных орлов среди букового леса, шелестящего на январском ветру.
Читать дальше
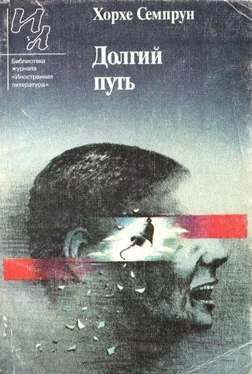

![Миньона Яновская - Очень долгий путь [Из истории хирургии]](/books/28917/minona-yanovskaya-ochen-dolgij-put-iz-istorii-hir-thumb.webp)
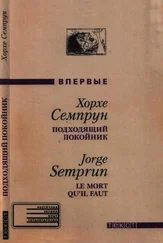


![Пол Андерсон - Долгая дорога домой [Долгий путь домой, У них нет мира]](/books/340873/pol-anderson-dolgaya-doroga-domoj-dolgij-put-domo-thumb.webp)
![Аделия Розенблюм - Инспектор Ян. Долгий путь [litres самиздат]](/books/436857/adeliya-rozenblyum-inspektor-yan-dolgij-put-litres-thumb.webp)


