— Зато танкеры будут привозить бензин для вашей машины, — говорил я обычно.
Тогда она переключалась на докторов Джека, на больницы, а потом на нас с Джеком. У мужчин вообще свои "делишки" на уме.
— Не отпирайтесь, — говорила она. — Взять хоть Джека. Хоть вас. Совесть у вас нечиста.
Не знаю, почему уж она считала, что совесть у нас нечиста, думаю, и Джек не знал, но от этих слов мы казались себе интереснее. Она, бывало, как начнет насчет "нечистой совести", так тут же вспомнит, что Джек больно охоч до любви или же, наоборот, что холодный, как рыба. Или что транжирит деньги. Или что пенса из него не выжмешь. Или что к нему не подступишься. Или что ни одной юбки не пропускает. Волосы она стригла коротко, и у нее была привычка в разгар монолога ни с того ни с сего вдруг шмыгнуть носом — получался удивительный такой, щемящий звук посреди невинной болтовни, который страшно мне нравился, — лицо ее становилось пунцовым, а рот весело верещал, как маленький мопед. Джек слушал, деловито моргая, точно пытался запомнить каждое слово. После ее тирады он подымался, кивал и тихо произносил: "Ну и характерец!" И уходил, оставив нас наедине. Часто я порывался следом, но она меня удерживала:
— Останьтесь! Он хочет один посидеть на молу. Пускай посидит. Может, стихотворение получится.
Джек был поэтом; этот факт потряс мое воображение. Я с поэтами раньше не сталкивался. Бог их знает, на что они живут — думаю, Джек рецензировал рукописи для издательств, — но время от времени он отправлялся к себе наверх или на мол, и, как усердная наседка (так я сказал однажды), вдруг да и снесет стишок. Молли рассердилась, когда я это брякнул. Никому, кроме нее, не позволялось шутить над его стихами.
Черт меня дернул шутить над ним; через несколько месяцев ему стало совсем худо. Он слег. Я отвез его в больницу. Думал, просто язва. Он лежал в постели с дренажной трубкой во рту, а я старался его развеселить.
— Не смеши меня, — говорил он. — Швы разойдутся.
Спустя несколько дней он вернулся домой, прошелся по улице, потом выпил рюмку виски и ночью умер.
Первое, что я услышал от Молли, было:
— Он занял у меня утром пять фунтов. — Сказала она это негодующе.
Потом она сделалась взволнованной и нежной:
— Замечательно, что он выписался за день до того, как его сиделка уволилась, она была такая внимательная к нему. Из-за старшей сестры уволилась. Да ее все ненавидели.
Потом она зарыдала, охваченная горем.
— Я не переживу этого. Не могу поверить, что его нет наверху.
— И я не могу, — сказал я. — Никогда мне не было так тяжело.
Я любил Джека. Любил ее. Словно был женат на них обоих.
— В платяном шкафу опять замок испортился, — сказала она сквозь слезы, с сердитым укором.
Я обнял ее. Она стояла застывшая, отяжелевшая от горя и руку мою сбросила.
— Пойду посмотрю, — сказал я. — Я все сделаю, не волнуйся.
Если учесть, что Джек был небогат, выходки, которые он иногда позволял себе, были явно безрассудными. Гонялся за антиквариатом. Этот платяной шкаф я знал наизусть — уже раза три-четыре чинил замок. Дверцы были массивные, вот замок и ломался. Молли клялась, что этот дубовый шкаф, который стоял у них в спальне, вывезен гугенотами в XVII веке. Он был первой покупкой Джека, и они из-за него здорово сцепились. Она чуть не отправила шкаф назад в магазин, но Джек спас его весьма остроумным способом: написал про него стихотворение. И сделал для Молли святыней. После этого случая он покупал мебель тайком, прятал подальше от ее глаз, и несколько раз мне приходилось забирать его приобретения к себе.
— Так вот какими делишками вы с Джеком занимались! — сказала она после смерти мужа.
Она пришла в восторг от этого. И чтобы наказать меня — а заодно и Джека, — продала все, кроме шкафа.
История с мебелью, вся эта беготня и возня при распродаже, еще крепче связала нас в дни ее горя. Ее горе напомнило мне мои страдания после смерти жены, и мы часто говорили об этом. Она пристально смотрела на меня, кивала и говорила совсем тихо. Если не считать ее пошмыгиванья носом, Молли стала совсем неслышной. Мало-помалу горе отступило. Прошел год, и моя работа в доке кончилась. Меня решили перевести в Лондон, и я начал укладываться.
Едва Молли увидела сваленное у меня на столе барахло, в ней вдруг снова взыграл характерец.
— Вот и прекрасно! — сказала она. — Хоть расстанешься со своей идиотской лодкой.
Мой перевод в Лондон означал ее победу. Одержав ее, она сияла.
Читать дальше
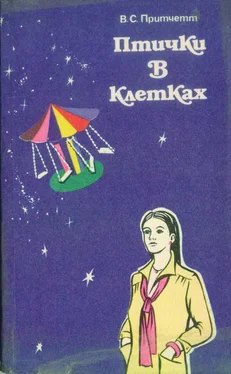

![Виктор Пелевин - Синий фонарь [сборник рассказов]](/books/35428/viktor-pelevin-sinij-fonar-sbornik-rasskazov-thumb.webp)








