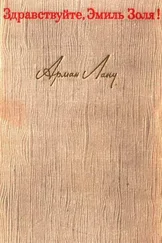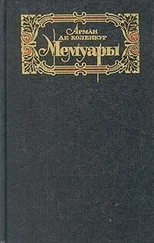— Совершенно верно. Но тут особый случай. Улучшить состояние больного нет возможности. И выдворить отсюда нет возможности. Вот его и держат здесь.
— Действительно есть от чего свихнуться, — тихо сказал Робер, на сей раз без всякого намека на юмор.
А из ящика извлекались все новые рисунки, и там плескалось море, голубое, совсем не похожее на Северное, зеленовато-сероватое. Рисунки складывались в картину жизни — скрытой от людского глаза жизни Мануэля, императора Португалии, что в своих рисунках неизменно возвращался к одному женскому образу: красивое античное лицо, устремленная ввысь фигура; особенно часто появлялась улыбающаяся брюнетка в черной повязке.
— Если б мы могли спросить у него, кто эта женщина, и если б он смог объяснить нам, наверно, мы бы кое-чего и добились в лечении его недуга. Мы несколько раз пробовали подступиться к нему, пользуясь приездом гостей-психиатров или посетителей. Мануэль как будто бы понимал, но отвечать не хотел. Погляди, опять эта женщина.
— Красивая. Но заурядная. Каравелла интереснее.
— Ты находишь?
— Конечно.
— Мне тоже так показалось.
— Трудно поверить, что и эти корабли и женщины — дело рук одного художника.
— В таком случае Эгпарс прав. Он считает, что, как только Мануэля охватывает эротический психоз, он лишается своей неповторимости, утрачивает свою индивидуальность. Он теряет свое лицо.
— Это общая беда, — заметил Робер, грустно улыбнувшись. — Все мужчины в подобных случаях теряют свою индивидуальность. Это ведь все та же стереотипная красота, рекламируемая журналами, тот же тип — его южный вариант. Только вместо блондинки — брюнетка, вот и вся разница.
— Мы проставляем даты на его рисунках. Они для нас ориентир. Если он работает без огонька, значит, у него наступила ремиссия. Ему позволяют выйти.
— Из больницы?
— Ну нет, конечно! Из отделения.
— А он не кидается на сестер?
— Ни на сестер больничных, ни на сестер во Христе.
Больному, видно, льстил интерес к нему посетителей. Он взглядом следил за движениями обтянутой кожей руки, которая комментировала его работу. Ибо, — хотя Робер и приучил себя к мысли, что он должен в практических делах отказаться от услуг правой руки, — именно, правую руку тянуло выразить жестом состояние. И он относился к своей лишенной жизни руке как к живой.
По фиолетово-голубому морю бежал парусник, а над морем, скосив линию горизонта, легла узкая ленточка красноватого неба. Море волновалось, и его волнение, как и на других рисунках, было размеренно и скрупулезно выписано художником. Некоторые картинки приводили на память Блейка и Тёрнера. В открытое море выходит пурпурный корабль, влекомый крошечным ярким пятнышком, желтеющим вдали, и на фоне этого солнца вырисовывается четкий силуэт женщины, стоящей в горделивой позе. Неизменный женский лик.
— Мы с Эгпарсом не выпускаем Императора из поля зрения. Ну и поломали мы голову над его рисунками! И знаешь, к какому выводу мы пришли? Они — поиски прибежища. Возможно — дорога в детство. Он молча рассказывает нам про свою беду. А порою вопиет о ней. И ты не скрывай своих эмоций, ахай побольше. Он обожает это.
Вытянув руку, Робер взял следующий рисунок, приставил его к стене и, отступив на шаг, поаплодировал художнику, из-за кожаной перчатки звуки получились неприятные, булькающие. Но Мануэль весь засветился.
Однако Оливье было не до улыбок, он вдруг обратил внимание на то, что смеялась у больного одна половина лица, правая, тогда как другая оставалась неподвижной, мертвой. Ничего подобного прежде он у Мануэля не замечал.
— Потрясающе! — сказал Робер. — Я впервые вижу такое, если не считать Ван-Гога периода его кипарисов и, может быть, Шварц-Абрис — я имею в виду портреты сумасшедших.
— Тут у нас был один служащий, садовник, тоже португалец. Они любили поболтать с Мануэлем. Император тогда был вполне миролюбив, Эгпарс поощрял их дружбу. И садовник понимал Императора. Но когда Эгпарс пытался через него задавать вопросы Императору, он только руками разводил! А в живописи понимал и того меньше! Его очень веселили рисунки Мануэля. Главным образом из-за того, что плоскость рисунка у Императора, если ты заметил, всегда немного наклонена. Нашему садовнику такая живопись не по зубам, ему надо, чтобы все было ровно и прямо. И пришлось их разлучить, потому как дело уже дошло до драки. С тех пор садовник затаил обиду на Эгпарса. И теперь, когда встречается с ним, отворачивается. Ему кажется, что с ним сыграли злую шутку.
Читать дальше



![Артур Кларк - Свидание с Рамой [Город и звезды. Свидание с Рамой]](/books/104059/artur-klark-svidanie-s-ramoj-gorod-i-zvezdy-svid-thumb.webp)