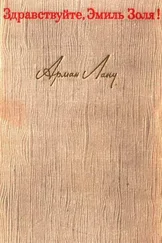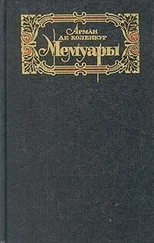— А сердце? — повторил Оливье.
Эгпарс махнул рукой: э, была не была. В его практике всякое случалось.
— Нет же ничего другого, — сказал он. — И потом, знаете, в человеке вдруг обнаруживаются такие силы… Слушайте, Дю Руа, вы бы показали Португальца мосье Друэну. Ему будет интересно. Сегодня уже поздно, а завтра непременно покажите. Покойной ночи, мосье.
Они смотрели ему вслед, пока он не скрылся из виду.
— Оливье, не мог бы ты найти мне фотокарточку Ван Вельде, — попросил Робер.
— Любопытно, почему тебя так занимает этот недоносок? Дело, наверное, в войне, пистолете и медали за доблесть?
— Да, — сказал Робер.
Он хмурил лоб, не в силах отделаться от надоевших мыслей.
— Я тебе все объясню как-нибудь потом. Когда сам буду уверен. Понимаешь, я ведь его уже видел, этого твоего типа… Я знаю его… Не могу сейчас вспомнить, где и когда видел, но — видел. И, по-моему, — если только верно то, что мне смутно припоминается, если действительно все подтвердится, — с его именем связано нечто ужасное.
— Ну уж и ужасное, не преувеличивай.
— Ничуть не преувеличиваю. В том, о чем я говорю, нет ничего театрального. С ним действительно связано нечто непостижимое, чудовищное, между прочим, касающееся всех нас.
— Кого нас?
— Нас, людей, — сказал Робер Друэн, зажигая сигарету левой рукой.
Недалеко от дома, где жили врачи, примерно метрах в ста, Робер увидел отгороженный участок, куда выводили гулять больных, когда выдавался погожий день. Территория больницы, засаженная деревьями, на которых сейчас лежали шапки снега, напоминала школьный двор: тут тоже были и свои «учебные помещения», и свои внутренние дворики, где гуляли больные под наблюдением санитаров. Группками собирались только облаченные в белые халаты. А те, в сиреневом, ходили по двору каждый сам по себе, их маршруты скрещивались, но они не задерживались при встрече, а бежали дальше, они сновали во всех направлениях, обгоняя друг друга и стараясь не задеть один другого. То, что движутся они как-то необычно, не сразу бросалось в глаза, но спустя некоторое время вы начинали замечать это, и это производило удручающее впечатление. Кто-то что-то выкрикивал, прижав руку к груди, словно выступал на многолюдном митинге. Кто-то в десяти метрах от него размахивал руками, и казалось, что его жесты имеют какое-то отношение к словам ораторствующего. Кто прыгал, подражая кенгуру: прыгнет раз двенадцать подряд, передохнет и потом начинает все сначала. Этот без остановки раскачивал левой рукой правую — получался маятник. Другой, взобравшись на спинку скамейки, держал равновесие. И каждое движение — его ритм, скорость, направление — было абсолютно неповторимым, и исполнители, по крайней мере большинство из них, будто и не видели друг друга. Временами ритм замедлялся, наступала минута покоя, но потом — «оратор» опять неистовствовал, «кенгуру» высоко подпрыгивал, а «маятник» раскачивал левой рукой правую.
Обстановка отдавала казармой, тюрьмой, в лучшем случае школой, но многообразие движений, чередование цвета — сиреневое, белое и красное — было как в балете Брауна, балете дисгармоний.
— Жизнь в транспонировке Брауна, — сказал Оливье. — Летом они так проводят целые часы. Это шизофреники. Их видно невооруженным глазом. Некоммуникабельность. Попробуй найти хотя бы двух, которых бы связывали приятельские отношения.
Их непоседливость и разобщенность были физическим выражением их недуга.
— Пойдем, посмотришь Португальца.
Роберу казалось, что он живет в Марьякерке очень давно — много-много недель. Они вышли во двор, прошли под аркой. Там неизменно горел тускловатый свет, хотя на небе уже сияло утреннее солнце. Им повстречалась партия рабочих, говорили по-фламандски. Роберу стало как-то не по себе, словно он услышал бессмысленную тарабарщину. Друзья обогнули здание, — прилегающий к нему двор как раз и был виден из окон их дома, — и направились к ельнику.
— Мой уважаемый мэтр очень образно называет эту часть наших владений преддверием рая.
— Неплохо придумано, если учесть, что рождество на пороге.
— Ну да. Ведь у нас здесь выжившие из ума старики.
— У тебя ноги еще не замерзли?
— Ничуть. Я привык. Ох, и рождество же я тебе устрою, старик!
— А для Жюльетты все это — смертельная тоска. Ты видел, какая у нее сегодня была физиономия? Она ни на что не способна реагировать нормально.
— Согласен. Ее реакции преувеличенны. Все та же теория стресса. Ты знаешь, один канадский ученый, Селье, обнаружил, что, когда крысам делали специальную инъекцию, они, как правило, реагировали одинаково — набуханием надпочечников. На основании этих наблюдений он и построил теорию стресса. Организм реагирует на раздражитель сигналами бедствия. Он отвечает на «выпады» против него, начиная с физиологических изменений и кончая душевными. Это ново. Полагают, что теперь электрошок можно заменить чем-то другим. Кстати, я думаю, что сегодня смогу тебе показать сеанс электрошока.
Читать дальше



![Артур Кларк - Свидание с Рамой [Город и звезды. Свидание с Рамой]](/books/104059/artur-klark-svidanie-s-ramoj-gorod-i-zvezdy-svid-thumb.webp)