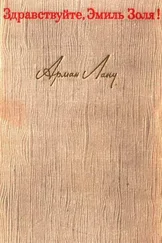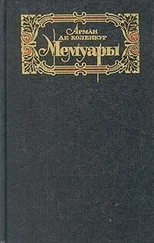— А Мануэль не поправится?
— Мануэль умрет императором Португалии, великим кормчим, ведущим за собой свою флотилию. А кто, по-твоему, счастливей: пастух, которому чудится, что он король, или король, которому почудилось, что он стал пастухом? Знаешь китайскую притчу? «Однажды мне приснилось, что я бабочка. И я был счастлив. Потом я проснулся, и оказалось, что я философ Чанг-Сёй. Отныне меня мучает вопрос — кто я: философ Чанг-Сёй, который помнит, что ему снилось, будто он бабочка, или бабочка, которой снится, будто она философ Чанг-Сёй».
— На эти вопросы, Оливье, еще никому не удавалось ответить. А он счастлив?
— Ты меня уже спрашивал об этом.
— Вопрос, естественный в устах человека.
— Безусловно, но здесь он бессмыслен.
— В конце концов, может, лучше быть им, и иметь его талант, и мучиться его муками, чем быть… ну, скажем, тем садовником, с его безмятежностью двуязыкого идиота.
— Я часто задаюсь тем же вопросом, что и почтенный Чанг-Сёй. Но ответа пока не нашел. Как и Чанг-Сёй. Впрочем, как любой человек скажет, что Чанг-Сёй — это китайский философ, точно так же любой скажет, что такого философа никогда не существовало. Сначала хочется сказать — «да», но потом… Не в глупости ли счастье? Ну вот ты, например, ты счастлив?
— Нет.
— И я нет.
— То есть… я все время счастлив, — поправился Робер.
Их связывало одно бесценное и редкостное свойство — умение легко обращаться с серьезным. И тот и другой обладали безошибочным чувством юмора и знали толк в дурачестве, что свидетельствовало о гибкости и живости ума, но они умели также выделить из нанизи слов, которой пользуются каждый день, то главное, над чем стоило задуматься. Они помогали друг другу довести мысль до конца. Там, где Жюльетта и Лидия видели лишь ослепительную игру словами, лишь вызывавшее раздражение кривлянье, мальчишество, там на самом деле велась серьезная беседа, какая не часто случается меж взрослыми людьми и в какой они делятся самым сокровенным, осиянные золотым огнем дружбы. Женщины догадывались об этой мужской дружбе, но они не подозревали, что за видимой легкостью скрывается основательная весомость, которая превращала авантюриста Оливье Дю Руа и режиссера-постановщика Робера Друэна в статистов нового Ренессанса.
Робер подыскивал нужные слова, он продолжал развивать свою мысль:
— Бывает, в момент самого глубокого отчаяния твое внимание вдруг привлечет какая-нибудь букашка или неожиданная расцветка лепестка, голубая полоска неба, дерево, и вот ты уже и счастлив. Удивительно! Среди разрухи, среди горя и траура, среди обломков обманутой, поруганной любви, среди ужасов войны я не переставал быть счастливым. И мне не много было нужно: березовый лист, травинка, прозрачность чернильниц, влажный взгляд прошедшей мимо женщины, крик ребенка. Понимаешь? Я не перестану быть счастливым.
— Тебе повезло. Ты не знаешь, что такое тоска.
— Действительно, я не понимаю, что вы хотите сказать этим словом. Мне знаком страх, беспокойство, гнев, когда сталкиваешься с тупостью, угрызения совести, но что такое тоска — нет, не знаю. — Он улыбнулся: —Доктор, а это серьезно?
— Вам я бессилен помочь, мой друг.
Мануэль прислушивался, перелистывая рисунки. Он протянул им следующий. Эта работа была грубее предыдущих: художнику изменило чувство меры, но когда вы глядели на эту вещь, еще мучительнее сжималось сердце. В парке у рояля сидит, повернувшись в профиль, человек. Над ним красное небо, — у Португальца небо все время красное, — на рояле канделябры; прислонившись к нему, стоит молодая женщина, одетая по моде тысяча восемьсот тридцатого года. Картина дышала властной силой, как стих умирающего чахоткой, в ней звучала тема Шопена.
— Наверняка мы знаем только, что Мануэль — моряк, — снова сказал Дю Руа. — Благодаря удостоверению личности и тому скандалу в Остенде. Ситуация, достойная песен Эдит Пиаф.
— Мануэль, — позвал Робер. — Мануэль.
Больной не откликнулся. Он был сейчас и здесь и не здесь одновременно, так же как его каравелла была одновременно нарисована и в профиль и в фас.
— Для моряка у него довольно странные сюжеты, ты не находишь? Я бы назвал их мечтаниями человека, вскормленного беллетристикой.
— Возможно, он позаимствовал все это в каком-нибудь иллюстрированном журнале, — высказал предположение Оливье.
— Возможно. Но если он выбрал именно это, значит, это ему по душе.
— Я смотрю, ты так разволновался, а между тем — самое интересное у него — другое. Он неизменно возвращается к одной теме, — навязчивой, не дающей ему покоя. Взгляни повнимательнее. Видишь женщину?
Читать дальше



![Артур Кларк - Свидание с Рамой [Город и звезды. Свидание с Рамой]](/books/104059/artur-klark-svidanie-s-ramoj-gorod-i-zvezdy-svid-thumb.webp)