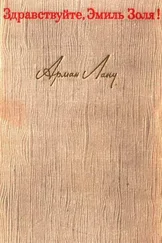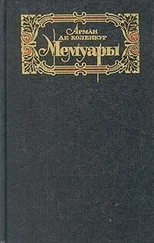— Такая же, как и те. Это и есть самое интересное?
— Да.
— Прости меня, но тогда твой Мануэль вполне нормален! Он в заточении, и он мечтает о женщине! Он в заточении, но он моряк и мечтает о море!
— Так-то оно так. Но все созданные им образы — лишены целостности, — вот что ненормально! Они существуют одновременно в двух эпохах, в двух временах. И я, по-моему, еще все упрощаю. Человек, перечеркнувший Эвклида!
— А может, он предтеча, а не изъян на теле человечества?
Оливье не ответил. А Робер ужаснулся сам себе. Он поймал себя на том, что счастлив. Счастлив оттого, что обсуждает рисунки Португальца и наслаждается их необычностью, оттого, что может позубоскалить с другом насчет шансов неэвклидова человечества. Счастлив за счет Португальца.
Следующие за этими картинки показались Оливье не менее любопытными, духовный мир Мануэля представал совсем в другом аспекте. Люди в скафандрах, разведчики неведомых миров, высаживались на какую-то загадочную планету.
— Этими рисунками можно было бы иллюстрировать Ловекрафта. Этот человек свободно передвигается во времени и пространстве, он увидел больше, чем я на своем «бристоле», и ты с твоим телевидением! Он путешествует, не сходя с места, такой благоразумный за своим школьным пюпитром.
Он показал им летящие снаряды. И здесь господствовали те же тона: тусклое золото в сочетании с серым цветом, черное с красным. Тут тоже было небо, но оно было…
— Полное муки, — проговорил Робер, отвечая на свои мысли.
— Да, точнее и не скажешь. Видишь, как словарь психолога близок словарю поэта. Жаль, Робер, что ты не знаешь португальского!
Они отложили последний рисунок — наивный Апокалипсис: неизвестная планета, покрытая фантастической растительностью, пучится опухолями. Больной нагнулся, собрал рисунки и стал раскладывать их по порядку. Оливье протянул ему руку, и он пожал ее.
Потом он без малейшей заминки пожал левую руку Робера. И он, этот человек, не ошибся! Столько чувства вложил Мануэль в свое пожатие, что у Робера сдавило горло и на глазах выступили слезы.
— Какое ужасное несчастье, — прошептал он, — что Португалец — португалец.
— Конечно, но мы все португальцы.
— Папка, ну скази, ты мне купись в Брюгге купальник для Нунур? С крузавциками. Ладно?
У Робера теплело на душе от этого родного голоска, он не умел ей отказывать. И он уже собирался ответить «да», но Жюльетта опередила его.
— Домино, — раздраженно прикрикнула она, — сколько раз я должна повторять, чтобы ты не называла отца «папкой»! Так только невоспитанные дети говорят!
Робер промолчал. В голове у него снова завертелась мелодия Пикардийских роз. «Папка, помнишь Розы Пикардии?» Он всегда звал родителей «папка» и «мамка». Это не был язык «малокультурных мужланов», как думала Жюльетта. И в нем не было ничего «вульгарного». Просто им пользовались среди своих. И произносил Робер эти слова необычно, на свой лад. Домино приняла эстафету.
— Я своего отца тоже называл «папкой», — вдруг взорвался Робер. — И я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы Домино звала меня «папкой».
Жюльетта закусила губу, бросила взгляд на Лидию:
— Ты видишь… какой он.
Оливье, который все это время поигрывал своим пистолетом, прицелился и выстрелил в медное блюдо.
Медь звякнула, от неожиданности Жюльетта подскочила.
— Вот мы какие, — сказал он.
Жюльетте и в голову не приходило, что ее манера постоянно одергивать становится невыносимой. И самое худшее — число этих промахов увеличивалось. Лидия молча смотрела на Оливье. Они тоже не могли никак договориться.
— Нет, решительно бог создал мужчину и женщину для того, чтобы они не могли ужиться, — проронил Оливье.
Раздался телефонный звонок — сигнал бедствия здешних загадочных мест. Оливье снял трубку. Ответил на какие-то вопросы, сначала громко и уверенно, а под конец едва шевеля губами. Положив трубку, сказал:
— Пошли, Робер. По пути все объясню. Эгпарс приглашает меня на одну вечерушку.
— На какую вечерушку?
— Сеанс электрошока. Вас я не приглашаю, милые дамы.
— О, ради бога! — хором пропели дамы.
На этот раз друзья поехали на мотоцикле.
Ван Вельде после свидания с женой, которое не прояснило их отношений, ночь провел плохо и теперь был в сумеречном состоянии.
— Ради него я и сорвался, — кричал Оливье, согнувшись над рулем. — У него бред.
Дверь была закрыта, они позвонили. Из отделения доносилась музыка, приглушенная, почти неслышная, но Робер сразу же узнал въедливый мотив.
Читать дальше



![Артур Кларк - Свидание с Рамой [Город и звезды. Свидание с Рамой]](/books/104059/artur-klark-svidanie-s-ramoj-gorod-i-zvezdy-svid-thumb.webp)