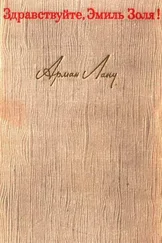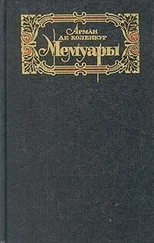— По правде говоря, я только тем и занимаюсь, что говорю. Слова — самое действенное лекарство из тех, которыми я располагаю.
— И рукопожатия, — добавил Оливье.
Ключ. Дверь. Скрежет железа. Еще сотни метров по застекленному коридору, и они уже в другом здании, очень похожем на предыдущие. Больных — несколько десятков. Они играли в карты, разговаривали, читали. Чаще слышалась фламандская речь, иногда — французская. Здесь, где больше было простого люда, мало кто говорил по-французски. Чужие слова сливались в непривычное, чуждо звучавшее для Робера жужжание, как будто оно исходило от полуреальных существ.
Кое-кто из больных лежал. Пятеро возились с яслями. Рядом валялись раскрашенные фигурки святых, — доморощенная скульптура, но догадаться, кого они изображали, было можно: вот дева Мария, а вот — Центурион, а вот — Пастухи, Цари. Они были больше, чем провансальские куклы, и раскрашены ярче. Ясли смастерили высокие, метра в полтора. Грот присыпали сверху порошком борной кислоты — снег на скалах. Двое молодых людей в пуловерах ломали на скалы гудронированный картон: из него собирались воздвигнуть соседнюю гору, а еще один больной вырезал из серебряной бумаги звезды.
Музыка играла чуть тише, но это было так же приторно.
Оливье комментировал:
— Это главный административный корпус, от него расходятся во все стороны пять лучей. Я имею в виду пять отделений, открытое не в счет. В первом держат тех, кто где-нибудь работает, вроде мажордома, Улыбы, потом еще садовники, столяр, трое поваров, им разрешено свободно расхаживать по всей территории. В четвертом — более или менее легкие больные: с неярко выраженной патологией, с навязчивостями, слабоумные и алкоголики… Самые заурядные, так сказать. Чистилище. Второе, которое носит имя Эскироля, великого французского ученого, предназначено для впавших в детство стариков и неизлечимо больных. В третьем — шизофреники. В пятом — буйные…
— Как в Змеином гнезде.
— И да и нет. У автора больные меняются местами, что очень эффектно, но не совсем точно. Во всяком случае, ни в Бельгии, ни во Франции, ни в Италии такого не бывало. Практически, когда у врача уже сложилось определенное представление о больном, он помещает своего пациента в соответствующее его состоянию отделение на все время лечения, и нужны слишком серьезные основания, чтобы перевести больного в другое отделение.
Робер бросил взгляд на ясли, над которыми один из больных сажал черные звезды; благодаря разноцветной бумаге в декорации были представлены все необходимые цвета. На стене уже красовалось несколько больших букв, желтых, зеленых и красных:
Главврач и его спутники переходили от группы к группе. В первые минуты Робер увидел только колышущуюся человеческую массу. Теперь он мог различить лица. На него больные реагировали по-разному. Некоторые безоговорочно принимали его за «дохтора» и обращались к нему так же, как и к Оливье. В иных взглядах читалась озабоченность появлением нового человека, а иногда и явная враждебность. Эгпарс подхватил Робера под руку, — ведь он его гость, — и потащил его к высокому здоровяку с открытым лицом, живыми глазами, мужественной посадкой головы; надетый прямо на голое тело свитер открывал широкую, крепкую шею. Больной, явно эйфорического склада, пришел в восторг, оттого что смог пожать руку врачам. А руку Робера он стиснул обеими ручищами и трижды с чувством тряхнул ее.
— Как дела, Жан?
— Прекрасно, доктор. Все идет хорошо. — Доверчивый взгляд, добрая улыбка — открытое лицо рабочего парня, вся кожа в черных точечках, — должно быть, шахтер. — Все хорошо, доктор, — повторил Жан. Очень хорошо. Карта идет счастливая. Так что все в порядке, доктор. Мне повезло. Честное слово, доктор. — Жан ликовал от счастья. — Да, повезло.
Больные внимательно слушали его, кое-кто насмешливо улыбался.
Жан продолжал убеждать, особенно наседая почему-то на Робера:
— Повезло мне, доктор. Война как-никак. Видите, как все хорошо. Счастливая идет карта. Счастливая.
Для его сознания это было настолько очевидным, настолько бесспорным, что у Робера мурашки побежали по коже. Его первый контакт с душевнобольными поколебал прежние представления о них. Многих он мог бы встретить в любом городе, в трамвае, в метро. Ни с кем из них не связывалось традиционное понятие «сумасшедший»… Хотя… впрочем… Да, да. Лица были масками. Какая-то скорлупа была на них, которую нестерпимо хотелось отодрать, чтобы увидеть живое лицо… Была тут маска угрюмости, маска виновности, они были гротескные иногда… Но Робер не мог бы поклясться, что он не испытывал того же у Моранжа, — перед войной, — где всегда толпилась солдатня из воинских частей Нанси, Битш, Меца, Страсбурга и куда он, кандидат школы офицеров запаса, заходил частенько выпить кружку пива.
Читать дальше



![Артур Кларк - Свидание с Рамой [Город и звезды. Свидание с Рамой]](/books/104059/artur-klark-svidanie-s-ramoj-gorod-i-zvezdy-svid-thumb.webp)