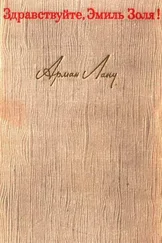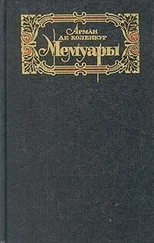— Я тоже не могу забыть маки, — сказал Оливье.
Его бесшабашность как рукой сняло. Ему снова виделась розовая заря над зелеными лугами Дордони. Он тряхнул головой.
— А, дьявол! Нельзя же все-таки всю свою жизнь прожить с мыслями о войне!
Он налил себе еще чашку чая и залпом выпил ее.
За перегородкой послышался лепет Домино: она только что проснулась. Напряжение Робера спало. Голос дочери оказывал на него магическое действие.
— Ты пойдешь сейчас со мной к больным?
— Да.
— Ты ведь, в сущности, ничего и не видел! Я дам тебе почитать одну-две книжонки по психиатрии. Правда, вряд ли ты там что поймешь. Нужно, по крайней мере, лет десять повариться в этом котле, чтобы в них разобраться и чтобы увидеть, какая там накручена галиматья, а действительность-то все равно ускользнула, и осталось лишь словесное трюкачество, одним словом, мюзик-холл от науки, а дело не продвинулось ни на шаг.
— Охотно прочту, — сказал Робер.
Постояв с минуту в нерешительности, он кивнул на свою больную руку.
— Ты не помог бы мне, а то я с ней проканителюсь, а к Жюльетте мне сейчас не хочется обращаться.
— Она все еще не в духе?
— Угу. Она читает Историю О. Это ты ей подсунул?
— Скажешь тоже! Просто у них какая-то удивительная способность натыкаться именно на то, чего они не хотели бы замечать. Жюльетта ее у меня выкрала! И не дай бог, если она дочитает ее до конца — мне придется распрощаться с жизнью, потому что я не знаю другой такой книги, которая бы так обнажала чувства женщины и тайную ненависть, какую они питают к мужчинам. По сравнению с ней Маркиз де Сад — просто детские забавы. Не думаю, чтобы она помогла ей избавиться от мизантропии. Давай-ка свою руку!
Робер протянул раненую руку. Оливье осмотрел ее.
— Ты никогда не говорил мне, как все случилось.
— Я боюсь возвращаться к войне. Осколок снаряда попал в руку и задел нерв. Июнь сорокового года.
Мускулы предплечья напряглись. Робер повертел рукой в руке Оливье, но не почувствовал дружеской теплоты, зато Оливье почувствовал, как безжизненна рука друга.
— Она начала сохнуть, тогда я стал заниматься специальными упражнениями и выжал из нее максимум, но мышцы уже атрофировались, и она не сгибается в локте.
Он говорил о своей руке, как говорят о нерадивом жильце; Оливье заметил, как по руке Робера пробежал нервный ток и от напряжения воли, пытавшейся преодолеть барьер, дрогнуло еще сильнее предплечье, но кисти движение не передалось. Оливье ловко палец за пальцем облек руку Робера в плотную кожаную перчатку, и в перчатке она выглядела мужественнее, чем обычная, ничем не защищенная рука. Робер не случайно выбрал именно такую перчатку, чтобы прикрыть свое увечье, — из плотной мягкой кожи глубокого черного цвета; он позволил себе малую толику кокетства. У запястья Оливье стянул перчатку ремешком, который играл роль своего рода упора.
— А мне нога не дает покоя, — сказал Оливье. — В свое время рану как следует не залечили, пришлось поставить серебряный протез… В общем, только хирургия и стоит чего-то, так-то, старина.
— А я и не знал, — протянул Робер.
— Ну вот теперь знаешь, ты и Лидия, — больше никто. Моих милых подружек я, конечно, ни во что не посвящаю. Да им и наплевать.
Как и накануне, Оливье надел сандалии и пальто, помог влезть в пальто Роберу. И хотя Робер не выносил подобного рода услуг, от Оливье он принял ее без стеснения.
Прежде чем уйти с Дю Руа, который оставил свою комнату в полном беспорядке, Робер зашел к себе, поцеловал в лоб жену, но та, воплощенный протест, даже не подняла головы от книги. Он схватил Домино и, попридержав больной рукой, здоровой подбросил ее в воздух. И, напевая «яву», щека к щеке, закружился с ней по комнате. Девочка закрыла глаза и замурлыкала от удовольствия.
— Моя спасительница, — сказал Робер другу, принимая к себе дочь, а та настойчиво требовала: «Папа, еще!..»
У Оливье был достаточно наметанный глаз, он моментально сообразил, каково соотношение чувств, составляющих эмоциональное ядро семьи Друэн, и вздохнул: у него такая же история, только что нет ребенка.
— Вся беда в том, — попытался объяснить Оливье, когда они уже выходили, — что мужчина и женщина слишком по-разному устроены, чтобы жить вместе, хотя они могут любить друг друга или почти любить. Тут с самого начала произошло какое-то недоразумение.
— А если они еще пережили войну, — сказал Робер, — то дела совсем плохи.
Читать дальше



![Артур Кларк - Свидание с Рамой [Город и звезды. Свидание с Рамой]](/books/104059/artur-klark-svidanie-s-ramoj-gorod-i-zvezdy-svid-thumb.webp)