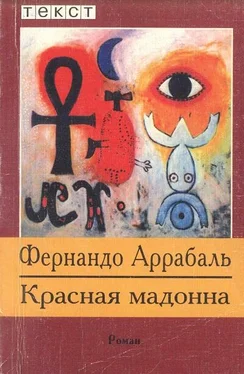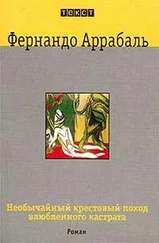В подвале, словно уходя в иной мир, ты трудилась ночи напролет. Кружась в вихре своей юности, с величием и красотой, ты была столь же счастлива, сколь и блага. Дважды мне снился один и тот же сон — ты была прекраснейшим цветком из всех цветов. Лучезарная, как огонь, стояла ты на палубе корабля-призрака. Большой дельфин плыл по морской глади, сопровождая тебя.
Словам счастья было тесно в моей душе, когда я видела, какие чудеса ты творила в горниле. Блаженство неудержимо захлестывало мои мысли.
Пусть годам, даже десятилетиям суждено пройти, прежде чем ты получишь реальное и осязаемое доказательство творения, — с какой решимостью шла ты вперед и как была прекрасна! Но какие тучи сгущались над нами, грозя нас уничтожить, хоть ни малейшего подозрения не закралось еще в мою душу!
Зачем ты предала меня, пробудив все то, чему нельзя было просыпаться?
IXC
Ты часто уединялась, чтобы поиграть на пианино, прилежно впитывая забытую субстанцию музыкальных сочинений. Бенжамен был совсем не похож на тебя, он играл партитуры с листа без эстетического осмысления, благоразумно и бесславно придерживаясь рутины. В его исполнении проявлялось мастерство, в твоем же, столь своеобразном, — умиротворение и гармония.
Бенжамен всегда был таким неблагодарным! Он научился играть на пианино в угоду моему любимому отцу и мне. Я и помыслить не могла, что он будет с тем же усердием играть перед нашими врагами из консерватории. Ему было всего восемь лет, когда он потряс этих узурпаторов и они забрали его, вырвав из нашей жизни. Ему это далось легко — он привык обходиться без нас. Но ты — нет, без меня ты не смогла бы жить. Природа создала нас с тобой, как пальцы на одной руке. Я любила тебя так безмерно — и так разумно.
В одном из писем Абеляру Бенжамен посмел утверждать, что я стою препятствием на пути к твоему благополучию. Он якобы хотел тебе помочь, тогда как на самом деле оскорблял тебя и даже называл узницей, а меня — чуть ли не твоей тюремщицей. Я много сделала ради него в свое время, зная даже, что никогда не дождусь ни малейшего знака благодарности с его стороны. Где ему было при его спеси постичь со скромностью и логикой ту выгоду, которую извлекала ты. Столь далекую от его выгоды!
Бенжамен не давал нам покоя и этим указывал, сам того не сознавая, на свои дурные намерения. В двадцать семь лет он выдавал свою незрелость этой извращенной прихотью, желая непременно вступить в сношения с тобой. С большим шумом собрал он вокруг себя сонм иностранных светил, намереваясь вторгнуться в наш особняк и разрушить все, что мы создали. Он неспособен был осознать, что им движут ревность и суетность. Он так завидовал тебе! И недаром. Ведь сам он только и мог, что упиваться льстивым шушуканьем да дутой популярностью.
ХС
Какие заостренные буквы выводила ты в тайном дневнике! Ты разрывала ими нить твоих фраз — бессвязных, колючих, словно игольное острие, и полных нелепостей. Как не похож был этот почерк на твой обычный, летящий, четкий и ровный! От этих беспорядочных каракулей, которые наматывали нить твоих циничных суждений, у меня сжималось сердце. Кто писал эти мерзости — не ты, нет, невозможно, то был твой незримый двойник, притаившийся в самом постыдном уголке твоего существа.
«Труд от меня еще дальше, чем ноготь от глаза. — Мне наср… на разум, это все г…».
Семь раз повторила ты это ужасное слово — «г…».
Ни разу я не видела своими глазами, как ты тайком писала «Преисподнюю». Да и не пыталась тебя застичь.
«Я дам волю хаосу всех чувств за гранью разума. Когда придет время мне полюбить, я воспылаю безумной страстью к презреннейшему скоту. — Мой долг — обожать все, что есть на свете самого гнусного».
Какой слабой и беззащитной ты виделась мне, несмотря на твой незаурядный ум и лучезарную благость! Твой сиамский близнец выдыхал-нашептывал тебе эти слова, и как знать, возможно, этому мятежному двойнику, которого ты пригрела в сокровенных глубинах себя самой, суждено было отмереть, лишь испустив последний зловонный выдох.
«Я всегда буду строптивицей и маргиналкой. — Мне наср… на Природу и все ее творения».
Эти грубые, грязные слова ошеломляли меня своею оглушительной яростью. Ты никогда их не произносила — и вдруг они грянули со страниц твоего тайного дневника подобно пушечному выстрелу. Не Шевалье ли, думалось мне, научил им тебя из чистого озорства, не сознавая, на каком бурлящем вареве так пронзительно лопались эти пузыри?
Читать дальше