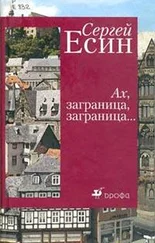Федя помолчал, а потом начал другую тему:
— Ты знаешь, Костя, я тебе раньше не говорил, но Евдокия Павловна сыграла в тещиной судьбе особую роль…
Историю Евгении Григорьевны я не то чтобы знал, а скорее, сконструировал, воссоздал по высказываниям членов семьи… В сорок первом году, когда деревню Доброе взяли немцы, Евдокию Павловну вместе с другими деревенскими женщинами угнали на работу в Германию. В то время она была секретарем сельсовета. Вернее, всем сельсоветом, потому что председатель и все мужчины-депутаты были на фронте. И поразительно, что через плен, оккупацию, бараки для «восточных рабочих» она пронесла маленький символ — сельсоветовскую печать. Восемь или девять женщин из Доброго работали в Германии в одном из больших сельских хозяйств. И вот когда их освободили англичане, то женщины сумели выскользнуть из их лагеря для перемещенных лиц и все вместе, организованно двинулись пешком на восток.
В первой же советской комендатуре они предъявили список, написанный от руки на обороте немецкой листовки: «Список колхозниц села Доброе Калужской области, направляющихся домой из фашистской неволи». Этот список, заверенный рукою секретаря сельского Совета, и печать находятся сейчас где-то в музее.
— …Она не только ее воспитала. Дело в том, что в последний момент, всучив какому-то полицаю литр самогона, она поменялась судьбою со своей шестнадцатилетней племянницей — с Евгенией Григорьевной — и вместо нее оказалась в Германии. — Федю несло. — Когда я ходил в женихах, то Евдокия Павловна числилась еще только нянькой, дальней родственницей из деревни Евгении Григорьевны, а потом ранг повысился — превратилась в родную тетку. Время поменялось. Видите ли, раньше Евгении Григорьевне было боязно: все-таки тетка побывала в плену. Дочь на нее оставлять было небоязно, а вот биографии ее тещенька моя страшилась. Ведь она к этому времени сделала блестящую карьеру: из деревни она, конечно, еще война не кончилась, тягу дала, служила официанткой, и тут ей подфартило — вышла замуж за лейтенанта, а тот оказался не без мозгов: после демобилизации крепко принялся за учебу…
В начавшейся на Каширском шоссе метели, в этих длинных от разворота перегонах мы изрядно проплутали и подъехали к моргу с опозданием в десять — пятнадцать минут. Внушительная кавалькада, остановившаяся у крепкого бетонного дома на задворках больничного городка, произвела должное впечатление не только на водителя ждавшего у морга автобуса, но и на служителей — все как-то подавили возникшее неудовольствие, простили срыв своего графика и порядка, правда, Федя в каком-то исступленном остервенении сунул одному, другому по десятке, — и очень быстро нас ввели в небольшой зал, где на постаменте в гробу, обтянутом недорогой розовой материей, лежала Евдокия Павловна.
Она лежала со спокойным лицом честно выполнившего всю занаряженную работу человека, смерть не наложила на нее отпечатка недавних страданий, на знакомом лице лишь как-то больше пропечатались доброта, готовность всем услужить и конфузливая неловкость оттого, что она собрала вокруг себя, оторвав от важных жизненных дел, таких занятых людей, которым надо было бы вершить какие-то свои чрезвычайно нужные мероприятия, а вот она так некстати и не вовремя умерла, заставила всех чуть ли не силком здесь собраться.
Перед лицом смерти хотя и близкого, но некровного человека (здесь действуют другие законы жалости, сострадания к ушедшему и к себе самому) мы все достаточно растерянны. Как встать, как выразить свою горечь, как сказать, чтобы услышал тебя ушедший, последнее «прости». Мы стояли с Федей возле гроба и переминались с ноги на ногу, пытались оживить в своем сознании и намертво, навсегда запомнить живой образ дорогой нам старухи. Мне казалось, что растерянно чувствовали себя и Евгения Григорьевна и ее подруга. Евгения Григорьевна несколько раз вытерла глаза, и мне стало ее жалко. В эту минуту она вспомнила, наверное, что-то свое, может быть, детское, что делила она когда-то вместе с покойницей, а теперь осталась единственной хранительницей этих воспоминаний. А может быть, думал я, Евгения Григорьевна ведет себя так сдержанно потому, что за годы, прошедшие после войны, привыкла к своей ритуальной бесстрастной маске, растеряла деревенские, веками отработанные приемы, которыми человек выплескивает, освобождаясь, наружу свое горе и, одновременно вовлекая в сопереживание окружающих, дает облегчение и им. Откуда же мне знать, какие мучения, какие каскады горя копятся сейчас в ее душе. И зачем, думал я, осуждать человека лишь за то, что он публично, как актер на сцене, не выявляет, не рвет в клочья страсти, не кичится своим отчаянием?
Читать дальше