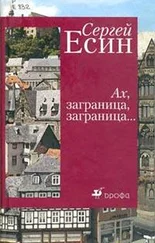Шофер прекрасно знал дорогу к Фединому дому и, когда остановил машину, я удивился: сначала мне вообще показалось, что мы не туда приехали: у подъезда стояли «мерседес», две черные «Волги», «рафик», — не могли на похороны безвестной старухи прибыть столь высокопоставленные провожающие! Но тут остановилась еще «Волга», и за чуть примороженным стеклом я увидел грустное лицо Феди — значит, тот дом, тот подъезд и тот грустный повод.
— Что это, Федя?
— Да я тебе говорил, теща развернула деятельность. Начальник Святослава Нилыча дал ей «мерседес», который мы держим для делегаций, и даже прислал свою жену — они с тещей вроде подруги.
— А другая «Волга», «рафик»?
— Начальник главка! Он как увидел, что моей теще оказано такое внимание, тут же и со своей стороны позаботился, — разгонную машину и завхозяйством. А у завхоза разгонной машины нет, он приехал на «рафике».
— Ясно. Когда поедем?
— Сейчас я поднимусь наверх.
Покойная Евдокия Павловна не смогла бы и предположить, какой кортеж отправится от дома, в котором она жила. Впереди ехал «мерседес» со встроенным кондиционером, шофером в ондатровой шапке и двумя дамами: Евгенией Григорьевной, тещей Федора, и ее подругой. Когда дамы вышли из подъезда, я поразился, какие они были в своих каракулевых шубах — не по возрасту подтянутые и моложавые, сдержанные, как-то даже не по-обычному сдержанные. Было бы все обычно, как у всех, — и вышли бы заплаканные, зареванные, с красными носами — одна потому, что старую родню жалко, другая бы из солидарности, а тут вышли обе отчужденные, значительные.
С Евгенией Григорьевной мы прилюдно поцеловались.
— Ты пополнел, Костя, хотя и выглядишь молодцом. Надо не распускаться, следить за собою. Ты не бегаешь по утрам трусцой? Нет? А сейчас обязательно все трусят.
— Обязательно воспользуюсь вашим советом.
— Спасибо, Костя, — милостиво продолжала Евгения Григорьевна, — что не забыл нашу Евдокию Павловну. Мы у нее, а она у нас единственная родня. Героическая была женщина. В войну погибли два сына и муж. Вы знаете ее историю?
— С сельсоветовской печатью?
— Эта печать, — с гордостью сказала Евгения Григорьевна, — в сельсовете служила еще лет около десяти.
— Да, женщина была большой души, — сказал я с каким-то тайным, не совсем ясным для меня укором.
Машины шли по улице Горького, мимо «Ударника», прямо к Каширскому шоссе. Где-то на повороте я обернулся и удивился: ничего, оказывается, кавалькадка, и все машины пустые — и разгонная, на которой приехал Федя, и машина из главка, только в «рафике» собралось некоторое общество: хозяйственник, помощник начальника главка и старуха лифтерша из подъезда, приятельница покойной Евдокии Павловны.
Еще садясь в машину, я дал себе слово не приставать к Феде с глупыми расспросами, — уже по внешнему виду его, когда тот вышел из подъезда с тещей и ее важной подругой, уже по его внешнему виду я понял, что ему стыдно и перед собой, и передо мной, и даже перед шофером с работы, что из всей их немалой семьи, знакомых и близких, которым покойная Евдокия Павловна прислуживала во время званых вечеров, которых она обстирывала, обглаживала, чьи квартиры стерегла, чьих детей тетешкала в младенчестве, проводить ее, потратить свое личное время вызвались, включая меня, лишь четыре человека, а все остальные прислали цветочки, телеграммы с пометкой «местная», позвонили по телефону, даже самых близких Евдокии Павловны нет — правнук и тот… Это все было написано на толстогубом, растерянном Федином лице, но я все же не вытерпел и спросил, уже сидя в машине и глядя через заднее стекло, как чуть ли не на целый квартал растянулся кортеж из пустых машин:
— Федя, а что Светлана не поехала?
Федино лицо брезгливо сгримасничало, он выругался в сердцах, потом, чуть успокоившись, скосил взгляд на шоферский упрямый затылок и, нагнувшись ко мне, тихо сказал:
— У Светочки поднялась температура до тридцати семи и двух десятых, и дражайшая многоопытная мамочка у-го-во-ри-ла послушную, робкую дочку, нашу девочку, нашу хрупкую, на восемьдесят кг, былиночку никуда не ездить. Это все, дескать, человеческие мифы — любовь к бабушке, а память о ней она, былиночка, конечно, сохранит в своем сердце, и бабушка, конечно бы, ее поняла и ни за что бы в такой холод больную не выпустила из дома. Вот ведь, — уже почти восхищенно проговорил Федя, — вот ведь стерва!
— Ты о теще говоришь-то?
— О теще, но моя былиночка тоже не лучше. Это же надо, здоровая, сытая баба, какого ей, спрашивается, рожна надо, мне в это чертово тропическое пекло — нож в сердце, а она, видите ли, туда торопится, здоровье копит.
Читать дальше