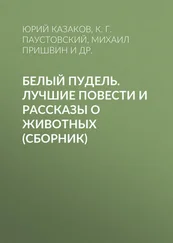— Ну вот и Зяблухам конец, — как-то грустновато сказал Анатолий Федосеевич, глядя ей вслед.
Распрощались мы на горочке, откуда до большака было рукой подать. Только пожали друг другу руки, как с боковой тропки вынырнула из кустов Любка, одетая по праздничному, с сумочкой в руке.
— А ты это куда? — спросил Щепов.
— В район, — сказала Любка. — Сяду сейчас на попутку — и алё.
— А вот тебе и попутчик, — довольно улыбаясь, показал на меня Щепов. Я уже отошел, но он подозвал: — Поди-ка, Алеша, сюда.
Я подошел.
— Сговорились, — прошептал Анатолий Федосеевич, кося на Любку глазом. И восхищенно добавил: — Ах ты, едрит твою в тарантас! Смотри-ка, смотри! Ну и грудь у нее…
— Полно тебе, старый хрен! — огрызнулся я, дружески хлопая-его по плечу.
Мы пошагали с Любкой к большой дороге. Она взяла у меня Библию. Я обернулся. Щепов стоял на пригорке, по-суворовски отставив левую ногу. Увидев, что я смотрю на него, помахал рукой и крикнул:
— А посылку я тебе пришлю-ю!
— Красиво у вас, — говорил я, вдыхая всей грудью теплый ветер. — А вот Анатолий Федосеевич говорит, что не всем нравится.
— Это Гарьке-то? — уверенно спросила Любка. — А чего такому шатуну понравится? Только приезжает в горячую пору да мужиков поит. Или баб увозит.
— Как увозит?
— Да так. Одну увез, она там от него к лейтенанту убежала. Хорош, видно, и там. Теперь другую увез. Не знаю, не приедет ли опять холостым. Ко мне сватался, хоть и троюродный. Мы тут все маленько родня, — засмеялась она. — Нашел дуру!
«Ну, тут-то и я бы тебе ноги пообломал», — подумал я о Гарьке, поглядывая на Любку.
Она была хороша и красива здоровой русской красотой. Не обращая внимания, что на нее глядят, говорила:
— Напьется и мелет всякую чушь. То трубы у нас тут нету, то еще чего. А у нас дела на поправку идут, — уверенно вскинула она голову. — Ферму на двухсменную работу переводим. Осенью клуб новый откроется.
Я смотрел на Любку, видел ее румяные щеки, пшеничную прядь волос, выбившуюся из-под голубой косынки, слушал ее, а попутно смотрел на холмы кучевых облаков, на поля и леса и думал, что всего-то прожил здесь с десяток дней, а до боли жаль было расставаться. Породнился как-то с местами и людьми, быстро прижился, и неохота было уходить, может быть, очень надолго.
А возможно, и не быстро прижился я, а просто жило изначально во мне чувство родства с этими местами и людьми, чувство древней родины и своей земли. А теперь вот, в теплом июле, пробилось оно, проросло во мне и открылось то сокровенное, чего не знал я в себе. И нашлась та родная сторона, на которой каждый кустик свой, каждый человек тебя приветствует и понимает. И ты близок им, и они близки тебе, и все здесь твое, откуда ты пошел, живешь и куда рано или поздно придешь, найдешь понимание и участие, а если скопил что-нибудь в душе, то и сам принесешь это сюда, как скромную свою лепту.
До чего неохота стало расставаться, что услужливая память подсказала, что ведь здесь, рядом, километров за пятнадцать, живет летами писатель Бородкин. «Вот отправлю книги и заеду к нему, — мигом решил я. — Заеду к Бородкину. За ягодами сходим, по грибы. Поговорим. Надоест еще город-то».
— Хвастает Гарька-то своими заработками, — говорила Любка. — А у нас механизаторы тоже немало зарабатывают. И в животноводстве тоже. Да теперь не слушает его никто. Только он с бутылками ко всем привязывается. Пропьется — матка на обратную дорогу денег дает. Ну, он посылает, правда. А дядя Толя от скуки на старости лет с ним связался. Трубу ему подавай, — рассерженно продолжала Любка, и я понял, что Гарькина болтовня задевает ее всерьез. — Без трубы, слышь, простору не чувствуется. Это у нас-то простору?! Вы поглядите-ка. Нет, вы посмотрите: у нас ли не простор?! У нас ли не благодать?
Я перевел взгляд с Любкиного лица на дорогу. Асфальтовый большак прорезал леса и стрелой уходил в отдаление. Сосновые боры чередовались с березовыми рощами. Вдалеке на округлых буграх виднелись поля и деревни. Мачты высоковольтной линии широко шагали к горизонту и скрывались в синеве дальних лесов. В котловине лежало голубеющее озеро, и облака отражались в нем. А ветер нес медовые запахи из перелесков, с полей, с сенокосов, охватывая нас с Любкой душистой волной.
Да, Любка была права, простор действительно был неоглядный.

![Леонид Фролов - Жемчуг северных рек [Рассказы и повесть]](/books/28036/leonid-frolov-zhemchug-severnyh-rek-rasskazy-i-pove-thumb.webp)



![Леонид Воробьев - Конец нового дома [Рассказы]](/books/418575/leonid-vorobev-konec-novogo-doma-rasskazy-thumb.webp)
![Евгений Воробьев - Тринадцатый лыжник [Рассказы]](/books/425269/evgenij-vorobev-trinadcatyj-lyzhnik-rasskazy-thumb.webp)
![Евгений Воробьев - Нет ничего дороже [Рассказы]](/books/426767/evgenij-vorobev-net-nichego-dorozhe-rasskazy-thumb.webp)