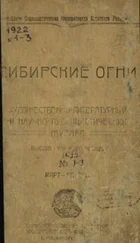— На-ка, мила дочь… Водица-то крешшенская… Перекрестись да и выпей… Ужо полегче будет…
Параська приподняла голову, перекрестилась и жадными глотками выпила воду. Ей показалось, что холодная вода, расходясь освежающей струей по всему телу, потушила пожар разгорающихся болей.
Однако новая схватка повторилась с большей силой.
Параська отчаянно закричала:
— Ма-мень-ка!.. То-ош-но-о!.. Умру-у-у!..
— Не умрешь… терпи… — ворчала Олена.
А бабка-повитуха свое приговаривала:
— Дай бог тошнее… лишь бы поскорее. Дай бог…
В полдень в избу забежал Афоня. Он потоптался под порогом, взглянул на стонущую дочь и снова скрылся за дверью, запустив в избу струю холодного воздуха.
Потом пришли со двора трое ребят.
Олена накормила их и выпроводила обратно на улицу.
Схватки у Параськи то затихали, то вновь вспыхивали. И чем дальше шло время, тем короче были промежутки между схватками и тем сильнее становились боли. Теперь Параська не могла уже понять, в каком месте начинались и где замирали боли. Иногда ей казалось, что в тело впивались тысячи острых и раскаленных иголок, и она отчаянно ревела:
— Ай-ай-ай!.. Маменька!.. Бабушка!.. Помогите!..
Олена по-прежнему ворчала, а бабка крестилась и шептала молитвы.
Короткий зимний день быстро подходил к концу. Солнце склонялось уже к позолоченным вершинам леса.
Надвигались лиловые сумерки. С улицы в избу доносились последние всплески задорного ребячьего смеха.
Олена быстро накормила вернувшихся с улицы ребят и спровадила их на полати спать.
Бабка Митрошиха налила в лохань теплой воды, вынула из своего узелка кусок мыла и долго намыливала и растирала вздувшийся Параськин живот.
Параська стонала, охала, временами вскрикивала.
Пришел Афоня, стал раздеваться.
Митрошиха спросила его:
— Ты что, Афоня, совсем пришел?
— Знамо, совсем, — коротко и сухо ответил Афоня.
Митрошиха ворчливо сказала:
— Пошел бы ты куда нето… Грех мужику торчать при родах… да еще при дочерних…
Афоня вспылил:
— Куда же мне деться, мать честна?.. Не на улице же ночевать? Нету таких людей… И никакого греха нету…
Митрошиха поджала губы, обиженно молвила:
— Мне што… Оставайся… хуже не было бы… Не нами заведено…
— Ладно, — буркнул Афоня и, скинув шинельку и валенки, полез на печь.
Митрошиха еще раз осмотрела и ощупала Параську.
Обращаясь к Олене, сказала:
— Надо мне, Оленушка, домой засветло сбегать… Сноха второй день хворает… За ребятами надо… досмотреть… Да я скорехонько…
Подумав, она спросила Олену:
— Яичек нет у тебя, Оленушка?
Почерневшая, осунувшаяся Олена махнула рукой:
— Какие там яички. Одна курчонка была, да и та осенью сдохла.
Митрошиха быстро накинула на себя шубу и шаль. На ходу еще раз проговорила:
— Не беспокойся, Оленушка. Ко времю вернусь…
Проводив старуху, Олена прошла к столу, села на лавку и задумалась. Смотрела на муки дочери и чувствовала, что растопляется, пропадает злоба к Параське. Жалостью и состраданием наполняется материнское сердце. По изборожденному морщинами лицу покатились крупные слезы.
А Митрошиха бежала уже по деревне и встречным бабам рассказывала:
— У Параськи бабничаю… У Афониной дочки… Бедность несусветная!.. Рубашонки даже нет на родильнице-то… Ничего, видать, не заработаю…
Близ Оводовых встретила бабку Настасью Ширяеву и ей рассказала:
— От Афони бегу. Настасья Петровна… Параська-то рожает… Бабничаю…
— Как она? — участливо спросила бабка Настасья.
Митрошиха склонялась к самому лицу бабки Настасьи и озабоченно зашептала:
— Тяжело. Настасья Петровна, тяжко… Уж и не знаю, разродит ли господь… Как бы не пропала девка-то… Только на господа да на свои руки и уповаю…
Митрошиха махнула рукой:
— Прости Христа ради. Настасья Петровна… Некогда…
И понеслась по улице к своему двору.
Бабка Настасья постояла, посмотрела ей вслед и, вместо того, чтобы идти домой, свернула на тропку, ведущую к гумнам. Шла, опираясь на клюшку, и думала о Параське. Жаль было девку. Злость закипела к внучонку непутевому. Обидно было, что не сумела научить его уму-разуму. Раздумье перекинулось на других баб и девок. Вспомнила и парней других. И всюду видела одно: тысячи девок тянулись и впредь будут без раздумья тянуться к мужской ласке, как ночные мотыльки к огню. И так же, как Параська, будут брошены и растоптаны. Ведь тысячи баб всю жизнь укромно оплакивали судьбу свою. И тысячи девок в кровавых муках и в одиночестве встречали свое материнство.
Читать дальше
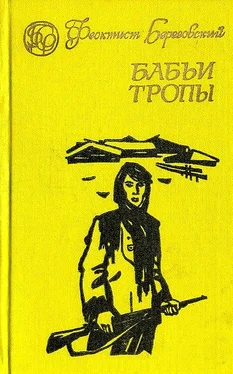


![Михаил Барщевский - Счастливы неимущие (Евангелие от Матвея) [Судебный процесс Березовский – Абрамович. Лондон, 2011/12]](/books/29215/mihail-barchevskij-schastlivy-neimuchie-evangelie-ot-thumb.webp)