— Ты вот что: с постели встанешь, давай прямо к нам в Санск, зачем ноги ломать не знай ради чего, — заключила Прасковья. — Будешь со мной малярить, подружки у меня хорошие, молодые. Избу я надумала продать, чтобы сразу…
— Продавай, — равнодушно сказала Маша, — я свою долю просить не стану. У меня дом есть.
— Какой у тебя еще дом?
— Миленкин.
— Нашла дом! — вспыхнула Прасковья. — Чего выдумала! Подурачилась, и ладно. У Милки на губах молоко не обсохло — какой муж. — И толкнулась мысль: не беременна ли? Раньше такое на ум не приходило — казалось, муж неправдашний, несовершеннолетний, и замужество дочери неправдашнее, покосилась подозрительно: — Ты что?.. — споткнулась на слове, повысила голос: — Детей тебе рано заводить, Милке (у нее язык не поворачивался Миленкина назвать по имени) учиться сколь, в армию идти. Если чего там… ныне просто.
— Успокойся, — уныло сказала Маша.
— Успеется это. Я было испугалась.
— Мама! — предостерегла Маша.
— Тебя с Милкой не регистрировали, ты вольный казак, фьють — только он тебя и видел!
— Мишку припасла? — начиная сердиться, спросила Маша.
— Припасла. Не твоему Милке ровня.
— Еще раз Костю обзовешь, я уйду, — предупредила Маша.
— Любо — живи с ним, — с сердцем уступила Прасковья. — Но зачем в Малиновке маяться, один Грошев сколь людям крови попортил. Да там все гожи.
— Люди везде одинаковые. И наши — просто Грошев их ожесточил да перессорил, это пройдет, они отойдут, сердцем оттаят. Бригадир, говорят, новенький, из Кузьминского.
Прасковья с минуту молчала, пораженная новостью. Будто ей не было никакого дела до Грошева, а вот поди ж, камень с души свалился, всю жизнь давил-давил и вот свалился, но Маше возразила:
— Новый, может, не лучше старого.
— Зачем говорить, когда не знаешь, — попрекнула Маша. — Да Андрей Егорыч всегда заступится. Он человек!
— Низовцев? Нашла заступника.
— С весны каменные дома будут строить, с удобствами. Ты живешь в городе, а ничего не знаешь — совсем отстала от жизни. Наверно, весь свет у тебя — Семен Семеныч. Коли я здоровая была, я никогда не чувствовала бы себя так хорошо, как этой весной. Поняла, как люди добры, как они отзывчивы, коли ты тоже добро делаешь, а если сразу тебя не поймут, позднее поймут, будут благодарны.
— Костя, что ль, тебе наплел? Весь в отца.
— Ты Кости не касайся.
— У вас с Костей ум заемный, не свой.
Маша сунула костыли под плечи, скособочилась. Прасковья с грустью подумала: «Будет на костылях шкандыбать, плечи, как у урода, вздернутся», расстроилась:
— Доченька, пойми меня, на костылях и Косте будешь не нужна.
Маша глотнула воздух, заикаясь, проговорила:
— Кто не придет, всякий с радостью, с добрым словом, ну, как он родной, от тебя — одни попреки. Что ты меня силой ломаешь?
В коридоре появилась маленькая глазастая сестра:
— Антонова, через десять минут на перевязку. Постой, ты вроде плачешь?
— Доченька, разве я со зла сказала, — оправдывалась Прасковья. — Я же хочу, чтобы тебе лучше было, ты на мать не обижайся.
Маленькая быстрая сестра враждебно посмотрела на Прасковью, помогла Маше подняться.
— Мы лечим, а вы калечите.
— Я мать.
Стучали по полу костыли, частили каблучки палатной сестры.
Прасковья стояла посреди коридора с обвислыми плечами, сбитая с толку, растерянная. Сестра, выходя из палаты, закрыла за собой дверь. «А до этого дверь была нараспашку, от меня закрыла», — подумала Прасковья. Дробно, мелко выстукивали каблучки, приближаясь. Когда Прасковья продала корову и купила молоденькую козочку, то козочка вот так часто перебирала ножками, выстукивая копытцами. Нелепое сравнение вертелось в голове. Сестра предупредила:
— Приходите завтра, но больше ее не расстраивайте, станете расстраивать — не пущу.
— Ее жалко, вдруг калекой останется — она молоденькая…
Сказать бы этой молоденькой сестре, что дочери отдала свою молодость, ради нее не уехала из деревни, все перетерпела, перенесла, сама ее вырастила, сама и жизнь ее собиралась устроить, да разве сестра поймет ее, Прасковью. С глазами, полными слез, Прасковья прошла к вешалке. Она решила, что завтра придет обязательно. «Не буду ей говорить больше ничего — выздоровеет, тогда поговорим».
… Маша, дожидаясь вызова к врачу, стояла на костылях у жаркого окна, смотрела в больничный сад. В саду на старых липах орали грачи. Больные жаловались па шум. А Маше казалось, что перестань кричать грачи, вокруг все поблекнет, не будь грачей, наверно, не было бы этой острой жажды: скорей домой. А давно ли, всего сумеречной тоскливой осенью, Маша у старого Барского пруда завидовала грачам, которые с истошным гвалтом роились тучами над старыми ивами, собираясь в отлет в дальнюю сторону.
Читать дальше




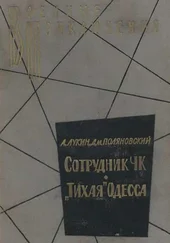
![Александр Борисюк - Тихая деревня [СИ]](/books/412501/aleksandr-borisyuk-tihaya-derevnya-si-thumb.webp)

