На поворотах в открытое окно автобуса зябкой волной врывался влажный воздух, он пахнул талой водой и землей.
Автобус бежал, встряхиваясь и покачиваясь. Мимо него с таким же задором проносились встречные автобусы, набитые нарядными пассажирами, резали колесами лужи, брызгались. Шум встречных машин да трели жаворонка назойливо вмешивались в думы Прасковьи. Казалось, что над автобусом специально подвесили этого веселого жаворонка. Под его трель Прасковья думала, что Машу обязательно надо забрать к себе, а дом в Малиновке продать, чтобы сразу с выселками порвать. Но к кому Машу устроить на квартиру? Или подыскать комнату побольше для троих? Судила сама с собой, и вроде на белом свете никакого Кости Миленкина не существовало.
Конев, после зимы не умытый дождями, встретил пылью. Тротуары были грязные: еще не вымели, не вычистили городок, а зелень слабо пробивалась по краям пешеходных дорожек.
Прасковья шумно ворвалась в тесную от коек палату больницы. Маша даже изумиться не успела, как мать обняла, поцеловала ее и заголосила, гнусавя:
— Доченька, родненькая моя, как это ты себя изувечила?
— Мама, не надо, — сказала приглушенно Маша, — кругом больные.
Прасковья, утерев глаза, стала укладывать гостинцы в тумбочку. Класть, в сущности, было некуда: в тумбочке были и апельсины, и яблоки, и шоколад, и конфеты, а печенья прямо-таки гора.
— За месяц не съешь, — захлопывая дверцу, сказала Прасковья, — кто тебе столько натаскал?
— Все, кто придет. Ко мне много ходят, да мы коллективом все съедим, — Маша показала на белые костыли, что стояли у койки: — Подай. Выйдем в коридор.
Прасковья молча подала костыли, вышла из прохода и пристально следила, как дочь подлаживала костыли под плечи, как, вытянув толстую забинтованную ногу, запрыгала, застучала. Прасковья сокрушенно покачала головой:
— Надо ведь, головушка. Что с ногой?
— Малоберцовая кость треснула.
В коридор солнце не доставало, поэтому было довольно сумрачно. Сели в старые кресла. Костыли в полусумраке белели как кости.
— Калекой не останешься, доктора что говорят?
Маша сказала, что нет, не останется.
— Конечно, ты молодая, — согласилась Прасковья. — Я дома с сушил упала: за сеном овцам лазила. Зажило. У молодых, как у собак, скоро заживает.
Маша смотрела помимо матери. Была между ними странная отчужденность. Чувствуя неловкость, Прасковья долго говорила о собаках, у которых раны да переломы заживают «в два счета», о какой-то Аниске Микулькиной — у нее «нога напрочь хряпнула — и ничего», Аниска на стройке рассыльной бегает.
А Маша вспомнила свекровь, что приходила в самый разлив. Заявилась она нежданно-негаданно, вся обвешанная сумочками с подарками. От сумочек вкусно пахло, да и от самой Устиньи пахло полями, ветром и солнцем. Ее круглое лицо загорело, и поэтому на разгоревшихся от ветра и ходьбы щеках полыхал девически свежий румянец. Даже врач, та самая, которой Устинья нагрубила в прошлый раз, с интересом спрашивала: «Как же ты прошла в такую распутицу?» — «Так и прошла, — ответила сияющая Устинья, — только в кузьминском вражке глыбко. Сапоги сняла, заголилась до пупка — и вброд. Водица как огнем палит. Ничего. На берегу, того, голова, сухими портянками ноги обернула, на ходу быстренько согрелась».
Далее врач прицокнула языком: «Так простудиться можно». Устинья улыбнулась, и было в той улыбке: эка невидаль — баба в половодье по брюхо водой прошла, в войну не то доводилось. «Настырная ты, — сказала врач. — Должно быть, дочку любишь». Устинья развязала косынку: «Как не любить! Она моему сыну жена, так и мне родная доченька, будто, того, голова, под своим сердцем ее носила». — «Вы свекровь?»
У Маши из глаз выпали теплые слезинки, она благодарно погладила шершавую руку Устиньи и, чтобы скрыть волнение, взялась за письма. Писем Устинья принесла много. Костя тревожился, почему Маша молчит. Было письмо от Нинки из Мангышлака, от доярок с фермы коллективное письмо, под ним стояла подпись и Анны Кошкиной.
— Ты Коське черкни при мне, — как бы между делом посоветовала Устинья, — я в ящик брошу сейчас же, напиши, что чуточку прихворнула, его не расстраивай, а то, поди, скоро экзамены.
Домашних лепешек Устинья принесла на всю палату. Оделила ими больных. Лепешки на сдобе таяли во рту. Ожила палата. Устинья внесла в нее радостные весенние заботы и хлопоты, и каждой больной не терпелось побыстрее отсюда выбраться к своим делам. Посещение Маши свекровью стало событием для палаты. А с родной матерью даже разговор не получился. Чтобы не молчать, Маша спрашивала, как живется в городе. Прасковья обрадовалась, принялась расхваливать свое житье и о Мишке Наговицыне навеяла языком целый ворох похвального. Маша насторожилась: неспроста мать затянула песню про какого-то Мишку.
Читать дальше




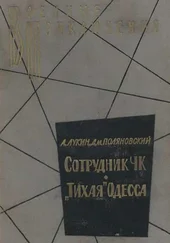
![Александр Борисюк - Тихая деревня [СИ]](/books/412501/aleksandr-borisyuk-tihaya-derevnya-si-thumb.webp)

